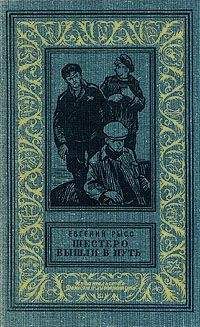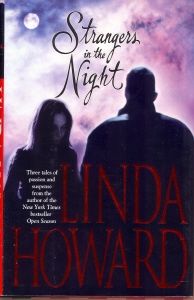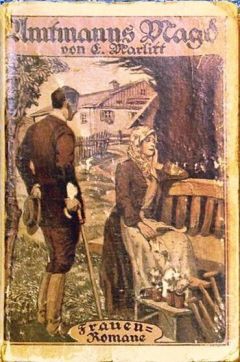Он смотрел на меня и думал. Мне казалось, я слышу, как мысли со скрипом ворочаются в несовершенной его голове. Все-таки в конце концов он понял, о чем я говорю, но ничего убедительнее истории с моим предшественником так и не нашел.
— Еле выпросил, — повторил он с удовольствием. — Уж просил, просил, чтоб живым отпустили! — И, не обращая больше на меня внимания, исчез со своим мешком в черном отверстии двери.
Я опять огляделся, не видел ли кто-нибудь, как меня прогнали. Но на улице не было никого. Удивительно сонный был этот город Пудож...
Должен сказать, что, кроме тех мыслей, о которых я здесь рассказал, была у меня еще одна мысль — даже не мысль, собственно, а ощущение. Вопреки тому, что мне нечего было продать, что у меня не было ни одной знакомой души, что мне никто не мог прийти на помощь и ясно было, что никто меня не возьмет на работу, — я не чувствовал, что положение мое безнадежно. Наоборот, в глубине души я знал, что все благополучно, что скоро я пообедаю и удобно переночую. Знал я также, что должен попробовать все, и, когда ничего не удастся, тогда получу право прибегнуть к этому выходу. Очень важно, что я буду вынужден к нему прибегнуть. Так как все-таки этот последний выход существовал про запас, я не волновался по-настоящему из-за своих неудач, а только делал сам перед собой вид, что волнуюсь. Во мне было как бы два человека. Первый горевал, что продать нечего, пытался устроиться на работу, огорчался неудачами. А второй спокойно ждал, пока первый все это проделает, чтобы потом предложить простой и верный выход. Верный и единственный! Единственный. Стало быть, я ни в чем не виноват и поступил так по необходимости. Тогда уж никто меня не осудит, не осужу себя и я сам. Наконец теперь, казалось мне, настал момент использовать этот выход. Больше никаких возможностей не было.
Я дошел до ближайшей скамейки, сел и впервые отчетливо и ясно, не скрываясь от самого себя, подумал, что теперь мне придется идти к Катайкову.
Прежде всего следовало узнать, где он живет. Спросить у кого-нибудь было стыдно. Мне казалось, что тот, кого я спрошу, подумает: этот юноша спешит на сытые кулацкие хлеба, хочет быть на побегушках у кулака и кормиться его подачками.
Обезьяноподобный верзила время от времени выходил из магазина, легко вскидывал на спину мешок или ящик и исчезал опять в черном отверстии двери. День шел над улицей спокойно, обычно, неторопливо. Лошади мордами подкидывали овес в мешках и помахивали хвостами, куры с достоинством, без жадности поклевывали траву; из ворот высунула морду свинья, посмотрела на меня, сморщила пятачок и скрылась.
Надо было действовать. Я твердо решил, что спрошу у первого же прохожего. Решил я легко, потому что никто по улице не проходил. Когда еще пройдет кто-нибудь! По местным условиям прохожего можно было долго ждать.
И вдруг совсем рядом со мной скрипнула калитка, и на улицу вышел худой пожилой человек в сером костюме, с резной тяжелой тростью в руке. Я не думая встал, подошел к нему и выпалил:
— Скажите, пожалуйста, где живет Катайков?
Он наклонил голову и посмотрел на меня. Именно к нему обращаться не следовало. У него было приятное умное лицо. Он, вероятно, плохо видел и привык носить пенсне. Красная полоска пересекала переносицу, и по бокам шли две перпендикулярные полоски от зажимов. Как человек близорукий, он всматривался в мое лицо очень внимательно. От этого мне было особенно неловко. Я ждал, что он начнет меня расспрашивать, кто я, откуда взялся и зачем мне нужен Катайков. Но он отвел глаза и суховато сказал:
— Вторая улица налево, по правой стороне последний дом. Голубая краска.
Он поклонился любезно и равнодушно и пошел, больше не обращая на меня внимания.
Дом Катайкова сразу бросался в глаза. Не очень большой, шесть окошечек по фасаду, он выглядел новеньким, свежим, будто его только что принесли из игрушечного магазина. Он был обшит тесом и выкрашен в голубую краску. Вокруг окон шли резные наличники, тонкой, как кружево, резьбы — видно, работы хорошего мастера. Такая же резьба шла вдоль скатов крыши и маленького балкончика в мезонине. И самый дом, и забор, и калитка — все было целое, крепкое, свежеокрашенное.
Я сначала прошел, будто прогуливаясь, по другой стороне улицы, обошел квартал и, подойдя опять к дому, собирался войти в калитку, но в это время из калитки вышел Катайков и пошел мне навстречу. Я еще не приготовился к разговору и растерялся. Мостки были слишком узки для двоих. Чтобы разминуться, нам обоим пришлось стать боком. Конечно, я мог сойти с мостков, но именно потому, что все мое будущее зависело от Катайкова, именно потому, что мне предстояло обратиться к нему с просьбой, я не сошел. Мы разминулись, и я надеялся, что он меня не узнал, не обратил на меня внимания. Тогда бы я попозже пришел снова, будто бы в первый раз. Но он вдруг оглянулся.
— А! — сказал он. — Здравствуй еще раз, молодой человек!
— Здравствуйте, — сказал я.
— Ну как, — поинтересовался Катайков, — побывал у дяди? Как тебя приняли?
Он все понимал. Лицо его было серьезно и спокойно, как будто он задавал самые простые вопросы, а внутри в нем таился смех. Я это ясно чувствовал.
В эту секунду я еще мог все спасти. Надо было улыбнуться весело и чуть-чуть виновато и сказать что-нибудь вроде того, что, мол, да, действительно, странный человек дядя. Еле оттуда ноги унес. «Я ведь к вам, Тимофей Семенович. Вы говорили, что можете устроить меня. Так вот — выручайте. Сами понимаете, у дяди не погостишь».
Думаю, что он усмехнулся бы и сказал:
«Что ж, пойдем, мое слово крепко».
Мы вошли бы в голубую калитку, меня бы накормили и уложили спать, а утром мы договорились бы с ним о работе. Не знаю почему, но уверен — он дал бы мне нетрудную работу и хорошо бы платил.
Может быть, если бы я не почувствовал скрытого его смеха, я бы так и сказал. Но я чувствовал смех и бесконечную уверенность в себе этого человека. И потом я помнил дядю, его жену и детей, щели в полу и деревянную миску с картошкой.
— Хорошо приняли, — сказал я. — Они ведь меня в первый раз видели, только слышали обо мне. Бабка писала. Но обрадовались, конечно.
— Так, так... — Он смотрел на меня чуть прищурив глаза, внимательно и спокойно. Он и сейчас понимал все. Он-то знал дядю. Но он не дал мне почувствовать, что понимает. Он соглашался на то, чтоб я не продавал своих. — Так что поживешь, — сказал он утвердительно и спросил: — А ты не ко мне ли шел?
И теперь у меня была возможность спасти положение. Он предоставлял ее мне. Не унизившись, не предавая дядю, я мог бы сказать:
«К вам».
«Насчет работы?» — спросил бы он. Он не стал бы меня унижать. Он помог бы мне с честью выйти из положения.