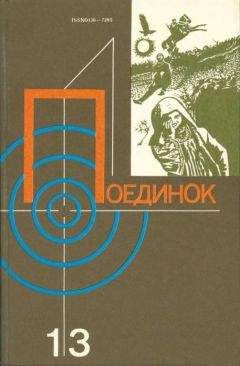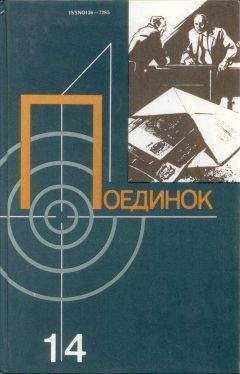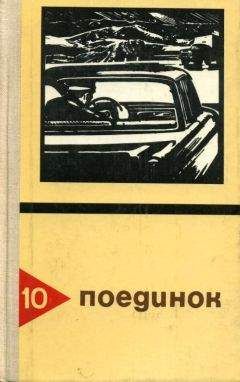— Кого?..
Казак еще что-то бормочет и уже не препятствует мне, идет вслед до дверей и в коридор. Там я громко ему шепчу:
— Адмирал Колчак велел проверить, на месте ли арестант Петр Лутошин... Понимаешь?.. (Казак сопит.) И если он по заговору с генералом Гайдой бежал, то, понимаешь, что я должен сделать?.. Понимаешь? Отопри сейчас же!
Заметив лестницу вниз, иду туда. Казак сопит около двери и трет об нее локтем, отыскивая ощупью замочную скважину, бормочет:
— Стало-ть, бывали здеся...
Где-то капает и под ногами чавкает вода. В открытую дверь лезет крепкое зловонье, кто-то начинает стонать, как в степи колесо.
— Петра Лутошин, тебе поверка...
Не помню, как пришло в голову:
— Ты что ж там! Это тебе не у матери Прасковьи сидеть. Смотри у меня!
— Сиживал и с братом Иваном...
Казак засопел и рявкнул:
— Как ты можешь их благородию!..
Но дело сделано: записка соскользнула в холодную ладонь Петра:
«Заяви, что согласен только лично рассказать мне о своей причастности к заговору генерала Гайды».
Я крикнул: «На замок!» — и поспешил уйти.
Конец первой части
Алексей Толстой
Рукопись, найденная под кроватью
Рассказ
Вранье и сплетни. Я счастлив... Вот настал тихий час: сижу дома, под чудеснейшей лампой, — ты знаешь эти шелковые, как юбочка балерины, уютные абажуры? Угля — много, целый ящик. За спиной горит камин. Есть и табак, — превосходнейшие египетские папиросы. Плевать, что ветер рвет железные жалюзи на двери. На мне — легче пуха, теплее шубы — халат из пиренейской шерсти. Соскучусь, подойду к стеклянной двери, — Париж, Париж!
Стар, ужасно стар Париж. Особенно люблю его в сырые деньки. Бесчисленны очертания полукруглых графитовых крыш, оттуда в туманное небо смотрят мансардные окна. А выше — трубы, трубы, трубы, дымки. Туман прозрачен, весь город раскинут чашей, будто выстроен из голубых теней. Во мгле висит солнце. Воздух влажен и нежен: сладкий, пахнущий ванилью, деревянными мостовыми, дымком жаровен и каминных труб, бензином и духами — особенный воздух древней цивилизации. Этого, братец мой, никогда не забыть, — хоть раз вдохнешь — во сне припомнится.
Пишу тебе и наслаждаюсь. Беру папиросу, закуриваю, откидываюсь в кресле. Как славно ветер рвет жалюзи, пощелкивают в камине угли. До сладострастия приятно, — вот так, в тишине, — вызвать из памяти залежи прошлого.
Не вообрази себе, что я собрался каяться. Ненавижу, о, ненавижу рассейское, исступленное сладострастие: бить себя в расхлыстанную грудь, выворачивать срам, вопить кликушечьим голосом: «Гляди, православные, вот здесь я — сырой, срамной. Плюй мне в харю, бей по глазам, по сраму!..» О, харя губастая, хитрые, исступленные глазки... Всего ей мало, — чавкает в грязи, в кровище, не сыта, и — вот последняя сладость: повалиться в пыль, расхлыстаться на перекрестке, завопить: «Каюсь!..» Тьфу!
Нет, я давно уже содрал с себя позорную кожу. Паспорт — русский, к сожалению. Но я — просто обитатель земли, житель без отечества и временно, надеюсь, в стесненных обстоятельствах. Хотя у меня даже есть преимущество: свобода, голубчик. Никому я ничем не обязан. Вот солнце, вот я, — закурил папиросу и — дым под солнце. Идеальное состояние. Я — человек, руководствующийся исключительно сводом гражданских и уголовных законов: вот — мое отечество, моя мораль, мои традиции. Я дьявольски лоялен. Попробуй мне растолковать, что я живу дурно, не нравственно. Виноват, а свод законов? Зачем же вы его тогда писали? Что вы еще от меня хотите? Добра? А что это такое? Это можно кушать? Или вы требуете от меня любви к людям? А в четырнадцатом году, в августе месяце — о чем вы думали? Ага! Шалуны, милашки! За время войны я уничтожил людей и вещей ровно столько, сколько мне было положено для доказательства любви к людям и отечеству. Со стороны любви — я чист. Или вы хотите от меня чести? Старо, голубчики. Ни Георгиевских крестов, ни Почетных легионов не принимаю. За честь деньги надо платить, тогда честь — честь. А ленточки — это дешевка, — мы не дети.
Удивительно, живешь и все больше убеждаешься, — какая сволочь люди, — унылое дурачье. Я уж не говорю про — извините за выражение — Рассею. На какой-то узловой станции был обычай расстреливать жидов и большевиков в нужнике. Этот самый нужник — вся Рассея. Вымрет, разбежится, будет пустое место. Сто лет на ней, проклятой, никто не станет селиться. А помнишь Петербург? Морозное утро, дымы над городом. Весь город — из серебра. Завывают, как вьюга, флейты, скрипит снег, — идут семеновцы во дворец. Пар клубится, иней на киверах, морды гладкие, красные. Смирн-а-а! Красота, силища. О, мужичье проклятое! Предатели! Шомполами, шомполами!.. Ну, да к черту!..
Французишки тоже хороши: салатники, — покажешь ему франк, скалит гнилые зубы. А попроси помочь, попробуй, — оглянет тебя, как будто сроду такого сукина сына не видел, и в лице у него изображается оскорбленная национальная гордость. А кто вас на Марне спас, бульонные ноги, лизоблюдники? Да, да, к черту...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
А в участках у них городовые — ажаны — первым делом бьют тебя в ребра и в голову сапогами, это у них называется «пропускать через табак». Не умру, дождусь, заложу я когда-нибудь динамитную шашку под Триумфальную арку. Все их долги у меня в книжечке записаны...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Вот, полюбуйся: прошло больше часу, как я пишу это письмо, а она за стойкой хоть бы пошевелилась. Бабища, налита вся красным винищем, выпивает четыре литра в день, плечи — могучие, корсетом до того перетянута, что внизу — пышность непомерная, а за грудь — отдай царство: мадам Давид. От этого корсета она так и зла. Идолище. Черноволосая, профиль, как у Медеи. Каждые два су гвоздем приколачивает к вечности. Вот — перемыла стаканы, взяла свинцовую лейку, налила пинар[13] во все бутылки и — опять — каменные руки сложила и глядит из-за прилавка на улицу. Это ее бистро называется «Золотая улитка». У самой двери из-под железной крышки бьет вода, течет ручеек вдоль грязненького тротуарчика. Уличка узенькая, вонючая, вся — в салатных, капустных листьях. Но — местечко старое. Пахнет жареной картошкой, шляются оборванцы. Здесь не морщатся на твои дырявые башмаки. Эту уличку — сними-ка шляпу — мостил еще король-Солнце. По квадратным плиточкам мимо этого кабачишки возили в тележках возлюбленных тобою французов, — Дантона возили и Робеспьера возили — головушки им рубить. И такая же идолица, Медея, глядела из-за этого прилавка, не сморгнув глазом...