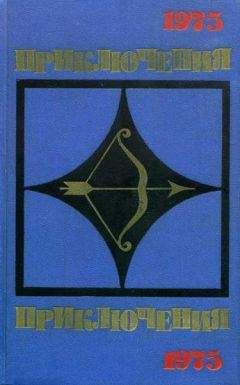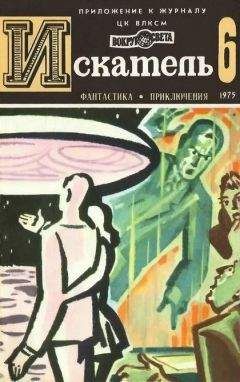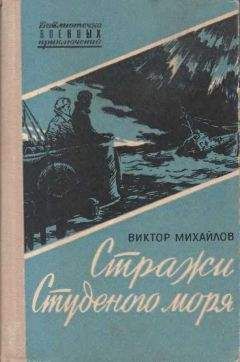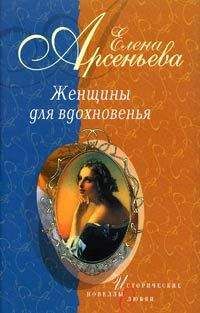Сколько метров он прошел и сколько до поворота? В темноте не угадаешь. «Держись, Колька! Крепись, крепись, крепись!» Он представил на секунду, каково Насонову в горловине трещины, узкой и морозной — наверное, штанами, рукавами уже примерз к стенкам — худо Насонычу.
Как-то, два года назад, он неловко провалился в трещину — мелкую, метра три-четыре всего. Сам проскочил, а рюкзак застрял — так и повис на лямках рюкзака. Пока вызволили ребята, минут пять прошло, закоченел весь, лицо побелело — обморозился.
Сколько же Насоныч сидит в трещине? Трубицын, нащупав острый ледяной выступ, навалился на него грудью, чувствуя, как ребровина выступа больно врезается в живот. Долго так не продержишься. А долго и не надо. Хотя торопиться тоже нельзя — если сорвешься, Насонову ничем не поможешь. Он ощутил под собой такую далекую и такую беспросветно черную глухую пустоту, что ему на мгновенье стало не по себе. Он вытащил из кармана записную книжку, вырвал несколько листков бумаги из середины, поджег. Трещина осветилась на несколько метров, заискрилась блести-нами, но до дна было далеко, и свет таял в темноте.
В ушах появился странный звон, будто кто-то постоянно трогал пальцами гитарную струну, не давая ей успокоиться. Трубицын перевел дыхание, облизал языком занозистые от засохших струпьев кожи губы.
«Звон этот от голода, — подумал он, — слабею. Быстро как слабею…» Он вдруг вспомнил все разговоры, которые несколько часов назад вели они в палатке, греясь над керогазом, вспомнил, что говорили о еде. «А мне бы кусок хлеба, кусок сахара, да кружку чая». От таких дум подводит живот.
— Держись, Колька, — пробормотал он вслух. — Держись, старый… В порядке все будет!
От этих слов ему вдруг стало веселее, полегчало на душе и даже сил, кажется, прибавилось…
Трещина начала сужаться — значит, уже горловина, — трещина раскололась воронкой: внизу широкий грот, выход из грота узкий, в несколько ладоней, настоящий ледяной лаз — сквозь него можно проскочить, только падая. Значит, Насонов упал на дно трещины, на скальный пласт. Это плохо. Мог поломаться.
— Коля! Колька! — позвал Трубицын.
Внизу, метрах в семи от него, тяжело, с тонким прихлебыванием вздохнул человек. Насонов!
— Колька! Я сейчас! Я сейчас, Колька, — бессвязно стал повторять Трубицын. — Насоныч, я сейчас…
Повторял-то повторял, но понимал, что через узкую горловину ему в грот не пролезть.
— Сла-а, — донесся снизу слабый голос.
— Я сейчас, Коля, я сейчас. — Трубицын попробовал проползти по горловине дальше, но стенки трещины не пустили, тогда он поднялся на полметра, запалил несколько сложенных вместе листов бумаги. До Насонова рукой подать — метров шесть. Он лежал навзничь на блестящих от ледовой корки, будто мокрых, камнях. Лицо бледное, постаревшее, щека в крови, неподвижно застывшая на груди рука со скрюченными, словно ороговевшими пальцами, тоже испачкана кровью.
Трубицын пошарил рукой вверху — следом за ним должен был спускаться свободный конец веревки.
— Сла-а, я знал, ты… — пробормотал внизу Насонов. — Ты… — он силился что-то сказать, но не договаривал, захлебывался.
Трубицын смотрел на него как завороженный и все шарил над головой, водил пальцами по гладким и скользким, будто стеклянным, стенам трещины. Потом понял, что запасной канат выпустили метрах в трех позади — чтоб не мешал, не путался под ногами. Он уперся ледорубом в стенку наискось, чтобы на ледоруб можно было наступить, как на скамейку, начал подбираться к веревке.
— Не уходи, — услышал он голос.
— Нет-нет, я здесь. Я не ухожу.
— Не уходи.
Трубицын громко выругался — размочаленный конец каната болтался очень высоко, до него не три метра, а два раза по три… Но делать нечего, и Трубицын, мелко переступая триконями по одной стенке, спиной упираясь в другую, помогая себе руками, задыхаясь и постоянно вытирая со лба пот, стал пробираться к веревке. Вверху посветил, увидел, что конец медленно раскачивается перед самым носом, теперь даже зубами дотянуться можно.
— Терпи, казак. Я сейчас. Сейчас…
Он трижды дернул за веревку, наверху поняли, стали медленно потравливать.
— Больше, больше, черт возьми, — раздражаясь, выкрикнул Трубицын, теплое дыхание облаком растаяло у самого лица. Он увидел, что рвет из книжки листки уже не чистые, рвет исписанные — какие-то цифры, обрывки имен, телефоны. Собственно, какое это имеет сейчас значение? Никакого. Этими телефонами он заполнит еще пять, десять, сто таких записных книжек. Главное — Колька! Главное — Насоныч! Он притравил конец, понемногу спустил его в горловину.
— Привязаться сможешь? — спросил он, освещая Насонова бумагой. — А?
Тот с трудным хрипом заворочался внизу, рука, что лежала на груди, была сломана и не действовала, второй, целой, он протянул веревку под мышками, скрутил на груди «восьмерку». Откуда только силы взялись? Трубицын следил за каждым его движением, щурился, чувствуя, как в глазах закипает, пузырится широкая радуга, и, не понимая, в чем дело, протирал глаза перчаткой, размазывал слезы по щекам. Веки щипало словно от дыма, и они, чувствовал, набухали, становились толстенными, больными.
— Все, Сла-а, — проговорил Насонов. — Все.
«Главное — протащить Кольку через горловину, главное, чтоб он не застрял, не ударился головой в потолок грота», — подумал Трубицын, но потом сообразил, что с той стороны должен без помех войти в горловину и проскочить эти вот проклятые метры.
— Коля, сейчас поднимать будем тебя. Слышь? Приготовься! — Он поджег оставшиеся листки записной книжки, поджег, не отдирая их от картонки, оклеенной гладкой тканью. Обложка задымила, как резиновая, и запахла резиной, и вспыхнула ярко, и хлопья пепла, будто снег, взвихрились в воздухе, стали плавно опадать.
— Приготовься, Коля, — повторил Трубицын; ухватившись за узел страховочной веревки, дернул ее трижды — сигнал стоящим «на спасе» — первым должен подняться он, лишь потом втроем они потащат Насонова — так быстрее и надежнее. Он взялся обеими руками за ледоруб и, помогая себе штычком, опираясь на него, как на костыль, двинулся вверх, ощущая, как привычно давит пояс на грудь; Солодуха и Кононов старались — подниматься было легко.
Он еще раз попробовал прикинуть — какова же глубина трещины? Выходило, немалая — метров тридцать пять — тридцать семь. Вот и изгиб, крутой и узкий — похоже, что стал еще уже — Трубицын ткнул ледорубом в черноту — попал острием штычка в лед, твердые морозные осколки брызнули в лицо.
Он уперся ногой в стенку, руки вытянул вперед, изогнулся по-рыбьи — хитрый поворот. Не сразу пройдешь — тут худо Насонову придется. «Ничего, в крайнем случае, подрубим», — успокоил себя Трубицын.