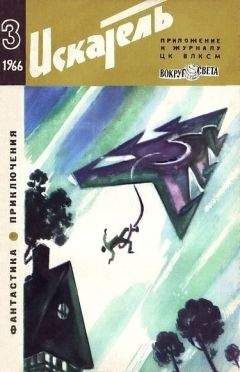— Нисколько не обидно, — сказал Антошин, торопливо отдирая с краев оконных рам поотставшие от сырости полоски газетной бумаги, — чего ж тут такого обидного?
Столовым ножом он отогнул гвоздики, которыми зимняя рама была приколочена к подоконнику и наличникам, дернул ее обеими руками на себя, вынул, поставил у стенки, распахнул окно.
В комнату хлынул солнечный свет и бодрящий, совсем по-весеннему сыроватый свежий воздух. И вместе с воздухом и солнцем со двора и Большой Бронной ворвались в затхлые Зойкины меблирашки вешние городские шумы.
Восторженно визжали ребятишки, игравшие в «казаков-разбойников». Вовсю чирикали воробьи. У изгрызенной деревянной коновязи возле извозчичьего трактира глухо ржали в торбы с овсом извозчичьи клячи. Звенел невообразимо высокий тенор точильщика: «Точить ножи-ножницы, бритвы править!» «Старье би-ре-ом!» — вопил захожий татарин с мешком на спине. На соседнем дворе шарманка, задыхаясь и ухая, играла марш лейб-гвардии Преображенского полка. Под самым окном какая-то, судя по свежему голосу, нестарая женщина рыдающим голосом попрекала кого-то невидимого и неслышного.
— Я тебе что? Я тебе, деспот, приказывала огурцы купить? А это что? Это разве огурцы? Огурцы, говоришь?! А где ихняя хрусткость, если это огурцы?.. Да тебя за такие огурцы убить мало, Мазепа проклятая!.. Молчишь?! Я тебе, ирод, помолчу! Где огурцы?.. Три копейки корове под хвост!..
Конопатый раскрыл глаза.
— Сядь поближе, — поманил он Антошина.
Антошин придвинул свою табуретку к самому изголовью умирающего.
— Так вот, — сказал Конопатый, — парень ты, кажется, честный, грамотный… и если тебе дать правильное направление, сможешь ты сослужить народу хорошую службу, благородную… Конечно, если ты хочешь добра не только себе, но и народу…
— Хочу, — сказал Антошин. — Честное мое вам слово, очень хочу.
— Можешь себе представить, Егор, будет такое время… обязательно будет, когда не станет у нас в России ни царей, ни помещиков, ни фабрикантов… Ни купцов… Никаких хозяев, которые живут чужим трудом… Чудно, а?
— Нет, почему же, — сказал Антошин, — нисколько не чудно.
— …И вся власть будет в руках народа… И не будет неграмотных… Всех будут учить бесплатно в гимназиях и университетах… И рабочих всех, кого теперь не допускают до ученья… Хотел бы ты быть студентом, Егор? Ты не стесняйся, говори… Тут нет ничего смешного…
Ах, как Антошину хотелось сказать, что он студент-заочник, что через два с половиной года он стал бы уже инженером, если бы не эта удивительная перемена в его жизни! Но Конопатый все равно не поверил бы.
— Конечно, хотел бы, — сказал поэтому Антошин. — Высшее образование — великая вещь.
— Но этого счастливого времени нельзя дожидаться сложа руки… Каждый…
Сильный приступ кашля прервал слова Конопатого.
— Я лучше закрою окошко, Сергей Авраамиевич, — предложил Антошин, — все-таки январь месяц.
— Чепуха! — прохрипел сквозь кашель Конопатый. — Хуже не будет.
С минуту длилось тяжелое молчание. Потом Конопатый с деланным безразличием осведомился:
— А тебе откуда известно, что я Авраамиевич? Меня здесь во дворе все Абрамычем величают.
Антошин понял, что проговорился, и что теперь ему от объяснений не уйти.
— Сергей Авраамиевич, — начал он, сознавая всю необычайную шаткость своих позиций, — вы читали книгу «Янки при дворе короля Артура»?
— Не виляй, Егор, отвечай по существу.
— Так я же как раз по существу! Роман американского писателя Марка Твена «Янки при дворе короля Артура» вам приходилось читать?
— М-м! — отрицательно промычал Конопатый.
— А «Путешествие пана Броучека в XV столетие»? Это повесть чешского писателя Святоплука Чеха…
— Откуда… тебе… известно… что мое… отчество… Авраамиевич? — надсадным голосом повторил Конопатый, уже не стараясь скрыть свою подозрительность, — При чем здесь какие-то романы?
— Очень даже при чем, — беспомощно отвечал Антошин, чувствуя, что вот-вот и кончится их запоздалая беседа. — Я вам сейчас все расскажу… Только вы мне все равно не поверите… Я бы и сам на вашем месте ни за что не поверил… Так вот, хотите — верьте, хотите — нет, но я уже давно, почти с детских лет знаю ваше имя и отчество по… Музею Революции.
— По чему, по чему? Ты яснее говори… По какому такому музею?
— По Музею Революции, Сергей Авраамиевич…
Гар-да-вой, гар-да-вой,
От-види меня домой! —
восторженно орали под окном ребятишки, —
Мой дом на га-ре,
Три а-кош-ка на два-ре!
— Теперь, ежели ты такие огурцы покупаешь, Мафусаил жеребячий, — звенел прежний женский голос, — то как же тебя, змей подколодный, можно теперя за колбасой, скажем, посылать или за требухой?.. Значит, я тебе деньги даю, а ты…
— Прикрой окошко, — сказал Конопатый, — мешают.
Антошин с совершенно убитым лицом выполнил его просьбу.
— Музей, значит, Революции? — медленно переспросил Конопатый. — Это в охранном отделении?
— Что вы! — воскликнул Антошин. — Это самый честный, самый настоящий, революционный Музей Революции!
— Так, так!.. И где же он, этот удивительный музей, помещается?
— Он… Он еще не помещается, Сергей Авраамиевич!.. Господи, как бы мне это вам объяснить, чтобы вы хоть немного поверили?.. Вы понимаете, он еще только БУДЕТ помещаться… В здании нынешнего Английского клуба, тут совсем рядом, на улице Горького, то есть, я хотел сказать, на Тверской….
— Будет помещаться? — слабо усмехнулся Конопатый. — Утешаешь, значит?
— Да нет же, честное мое слово, не утешаю… Я бывал в нем по крайней мере раз двадцать… Он будет там помещаться с тысяча девятьсот двадцать второго года… Вы только меня, пожалуйста, не перебивайте!.. Послушайте меня спокойно несколько минут… Я бы сам не поверил, но что я могу поделать, если это факт!.. Там, в Музее Революции, на втором этаже, в отделе «Марксистское движение девяностых годов XIX века», висит, то есть будет висеть, ваша фотография и краткие биографические сведения… Пожалуйста, прошу вас, Сергей Авраамиевич, не перебивайте меня еще несколько минут, а потом спрашивайте… Там будет написано, я вам сейчас прочитаю эту надпись наизусть, у меня отличная память… Одну минуточку, я сейчас вспомню в точности:
«РОЗАНОВ СЕРГЕЙ АВРААМИЕВИЧ. Родился в 1868 году в Гжатске Смоленской губернии, в нищей семье пономаря. Учился в Смоленской духовной семинарии, исключен из нее за «гордыню». Участник Московского народовольческого кружка Н. А. Соколова. В 1888 году в результате провокации члена этого кружка А. Колчинова…»