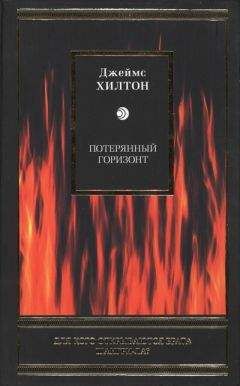— Я так понимаю, вы фундаменталистка?
Но мисс Бринклоу вроде бы не поняла смысла этого слова.
— Я когда-то была членом ЛМО, — прокричала она, — но разошлась с ними по вопросу о крещении младенцев.
Конвэй не сразу сообразил, что ЛМО означает Лондонское миссионерское общество, а когда догадался, все еще продолжал ощущать комизм этого обмена репликами. И он еще прикидывал, насколько удобно было бы вести теологические диспуты, скажем, в толчее лондонского вокзала Юстон, а тем временем подсознательно отмечал некое легкое очарование, исходившее от мисс Бринклоу. Он даже стал подумывать, не предложить ли ей на ночь что-нибудь теплое из своего гардероба, но пришел к заключению, что при ее худобе вряд ли его вещи придутся ей впору. И он устроился поуютнее, закрыл глаза и сразу же спокойно заснул.
А полет продолжался.
Все они пробудились от внезапного крена самолета. Конвэй ударился головой об иллюминатор, на миг потерял ориентировку, а после обратного крена машины оказался на полу в проходе между креслами. Стало намного холоднее. Первое, что он сделал, машинально, — взглянул на часы. Они показывали половину второго. Значит, он спал довольно долго. Он слышал какие-то громкие хлопки, но принял их за обман слуха, пока не сообразил, что мотор молчит, а самолет планирует, несясь навстречу порывам штормового ветра. Потом он посмотрел в окно и увидел совсем близко пустынную, серую, быстро убегавшую назад землю.
— Он идет на посадку! — вскричал Мэлинсон.
А Барнард, тоже выброшенный из кресла, ехидно добавил:
— Если повезет.
Мисс Бринклоу, как бы наименее затронутая всеобщей суматохой, была занята тем, что поправляла шляпку, и делала это так спокойно, будто они приближались к гавани Дувра.
Вскоре самолет коснулся земли. Но на этот раз садились они с трудом.
— Ах, Бог мой! Как плохо! Как дьявольски плохо! — стонал Мэлинсон, впиваясь пальцами в подлокотник своего кресла в течение десяти секунд подскоков и вибрации. Что-то в машине задрожало и хрустнуло; слышно было, как разорвалась покрышка на одном из колес шасси. — Все, конец, — заключил Мэлинсон с горестной безнадежностью. — Сломался хвостовой костыль. Теперь нам отсюда не выбраться.
Конвэй, совсем не склонный разглагольствовать в минуты испытаний, разминал затекшие ноги и ощупывал ушибленное место на голове. Пустяк, царапина. Его долг был как-то помочь этим людям. Но когда самолет остановился, он последним из четверых поднялся со своего кресла.
— Осторожно, — сказал он Мэлинсону, когда тот распахнул дверь, готовый спрыгнуть на землю. В ответ воцарившуюся относительную тишину прорезал полный ужаса голос молодого человека:
— Здесь нет нужды осторожничать. Это конец света. Во всяком случае, вокруг ни души.
Вскоре все они, содрогаясь от холода, убедились, что так оно и есть. Шум яростных порывов ветра и хруст их собственных шагов — вот и все звуки, которые они услышали, и, внимая им, ощутили себя во власти угрюмой и печальной дикости, разлитой по земле и в воздухе. Луна и звезды, проглядывавшие сквозь редкие облака, высвечивали грандиозную дышавшую ветром пустоту. Не надо было ни знать, ни думать, чтобы догадаться: этот мрачный мир располагается высоко в горах, а те горы, что поднимались вокруг, сами стояли на горах. Цепь вершин белела на далеком горизонте как бы собачьим оскалом.
Мэлинсон быстро направился к кабине.
— На земле, — кричал он, — я не боюсь этого молодца, кем бы он ни был! Сейчас я с ним разберусь…
Другие, словно завороженные его энергией, с тревогой наблюдали, что будет. Конвэй бросился вслед, но слишком поздно. Мэлинсон успел забраться в кабину пилота. Прошло, однако, несколько секунд, и молодой человек опять спрыгнул на землю. Он что-то держал в руке и бормотал сдавленным, хриплым голосом:
— Слушайте, Конвэй, странное дело. Этот парень то ли болен, то ли мертв, то ли… не пойму. Не смог выдавить из него ни слова. Пойдите поглядите сами… Револьвер я у него по крайней мере забрал.
— Лучше дай-ка его мне, — сказал Конвэй, и, все еще испытывая некоторую неуверенность в движениях после недавнего ушиба головы, он взял себя в руки и приготовился действовать. У него было такое ощущение, будто все мыслимые неприятности собрались именно в это время, в этом месте, в этих условиях. Он привстал на цыпочки и замер в положении, позволявшем ему видеть — не очень хорошо, — что творится в закрытой кабине. Сильно пахло бензином, поэтому он не решился зажечь спичку. Он сумел только различить согнувшуюся фигуру пилота. Голова его лежала на пульте. Конвэй потряс его, развязал тесемки его шлема, расстегнул ворот. Потом он обернулся и сообщил:
— Да, что-то с ним стряслось. Надо извлечь его отсюда. — Но сторонний наблюдатель заметил бы, как и с самим Конвэем что-то стряслось. В голосе его послышалось больше резкости, больше настоятельности. Он теперь не звучал так, будто вот-вот смолкнет под напором сомнений. Время, место, холод, усталость — все это теперь потеряло значение. Было дело, которое нужно выполнить, и более земное, общепонятное появилось в натуре Конвэя.
Втроем, вместе с Барнардом и Мэлинсоном, они извлекли пилота из кресла и положили на землю. Он был без сознания, но жив. Особыми медицинскими знаниями Конвэй не обладал, но, как и большинство из тех, кому случилось пожить в далеких, заброшенных местах, он был знаком с симптомами основных болезней.
— Вероятно, сердечный приступ, вызванный пребыванием на большой высоте, — поставил он диагноз, склонившись над летчиком. — Мы мало что можем для него сделать. Никак не скроешься от этого адского ветра. Давайте-ка переправим его в кабину, да и сами заберемся туда же. У нас нет ни малейшего понятия, где мы находимся, и до рассвета бесполезно что-либо предпринимать.
И заключение, и программа действий были приняты без возражений. Даже Мэлинсон согласился. Они перенесли пилота в кабину и пристроили в проходе между креслами, так что он мог лежать, вытянувшись в полный рост. Внутри не было теплее, чем снаружи, но тут их не доставал разбушевавшийся ветер. Вскоре именно ветер стал их главной заботой, важнейшим испытанием в ту печальную ночь. Необычный это был ветер. Не просто сильный или холодный. Это было некое разгулявшееся сумасшествие. Хозяин, шагающий по своим владениям. Он раскачивал тяжелую машину, злобно сотрясал ее, а когда Конвэй выглядывал в окно, ему казалось, будто ветер выдувает искры света из звезд.
Летчик лежал без движения, а Конвэй в темноте и тесноте, чиркая спичками, пытался как мог обследовать его. Немногого он добился.
— Сердце у него сдает, — сказал он в конце концов, и тогда мисс Бринклоу, порывшись у себя в сумочке, удивила всех.