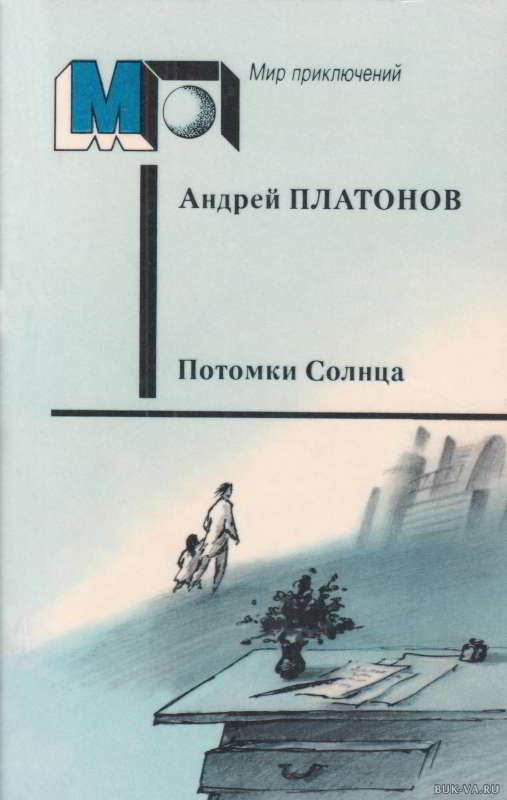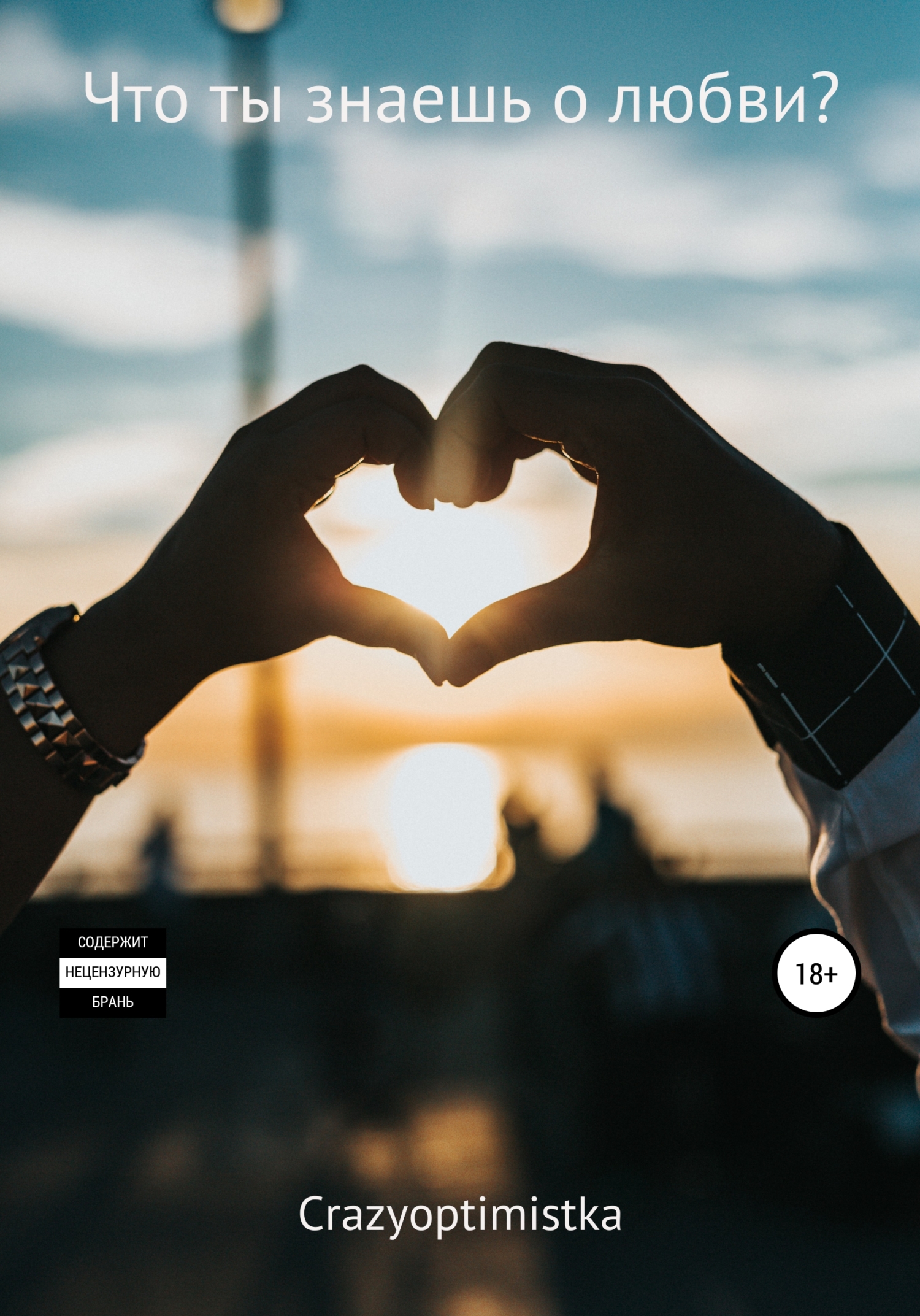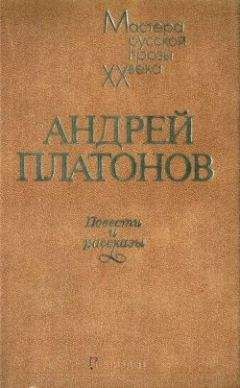жизнь есть остановочное томление, а за сутки до небесного суда тронулись бы сами и пошли, считая истинный божий срок.
— Тоже можно! — сразу согласился Яков Саввич и взял в задаток сто двадцать рублей, уговорившись сделать всю работу за полтысячи.
Пока Яков Саввич понемногу трудился, у хозяина двора — кондуктора постоянно рождались дети, и он обращался в нищего, тоскующего человека. Яков Саввич часто кормил его детей моченками из хлебной тюри, потому что его сердце скучало от одной жадности и своего житейского удовольствия и требовало для отдыха небольшой доброты.
Потом Яков Саввич сделал попам чугунные часы, которые должны в конце обычного времени пойти в ход от удара молнии, и тогда купил у кондуктора всю его усадьбу за двести рублей, а кондуктор с семейством остался жить, как жил — в кухне и комнате, но только квартирантом — за пять рублей в месяц.
С тех пор Яков Саввич не проклинал надоевшего места своей жизни, а грелся на солнце около собственной кузницы, следил, чтобы все было цело, чтоб росла даже ненужная трава в саду, и втайне подружился с инвентарем своего двора — с плетнями, с деревьями, досками и гвоздями на них, с закоулками строений, — и беседовал с ними в душе, любя их теперь неразлучной любовью, как царство своего сердца и мировое пристанище. И бедные, дремлющие предметы тоже шептали что-то в ответ Якову Саввичу своими спекшимися от молчания грустными устами, так что хозяин тем более не мог оставить их одних в сиротстве, на печальное пребывание. Он теперь не искал случая делать лишь странные механизмы, утоляющие вожделение темной души, а работал все, что ему давали, — ведра, формы для пирогов, железные скобки, петли для навески деревянных ворот и прочее. Яков Саввич соглашался нынче и на малое добро, чувствуя от него достаточное утешение.
Проклиная некогда всеобщие леса, он полюбил сейчас кусты и былинки в своем нажитом саду; волнуясь когда-то от ветра на бродяжьих дорогах, он прислушивался теперь к шевелению хвороста в собственных плетнях, а ветер не любил, как всякую непогоду.
Жизнь проходила перед ним своею мирной долготою; дети товарного кондуктора выросли и стали воровать крыжовник с кустов, деревянная кузница заиндевела от ветхости мелким древесным мхом, старый клен в саду уже несколько лет держал свои нижние ветви без листьев сухими от старчества наверно, он родился в то давнее время, когда здесь было еще чистое поле, и прожил век сиротою, в далекой стороне от могучих отцовских лесов.
В летние ночи Яков Саввич любил обходить двор и сад по загаженному краю, по темной крапиве и глядеть, как спит его добро и никуда не двигается. На небе звезды хотя и шли куда-то, но медленно, а на другую ночь опять были на своих местах. Затем Яков Саввич спал и видел сновидения старости, что он молод и мил лицом, кругом растет бушующий от ветра бурьян и голос давно погибшей, грустной матери звучит в воздухе над ним, и он смеется. В кузнице пахнет сажей и железом, за деревянной стеной тьма и редкий пугающий шелест травяных стеблей, а старик спит один на топчане, открыв рот в слабости своего счастья — видеть во сне мертвую мать, минувшую природу и свою забытую душу.
Но ум его, как сторож-старичок, спал слабо: в одну ночь он расслышал, что скрипит плетень под тяжестью человека, и разбудил Якова Саввича чувством беспокойства. Хозяин проснулся и стал слушать приближающееся бедствие.
Кто-то шел по мякоти трав и почвы небольшими шагами, иногда останавливаясь в страхе чужого места и замирая.
Яков Саввич стал бояться и ждать. Он расслышал, как неизвестное существо удалилось куда-то от кузницы и затем оттуда раздался робкий стук в оконное стекло, — что было в глиняной стене маленького дома, выходившего этой стороною в сад. Яков Саввич сам не знал, кто жил в том жилище, он там никогда не замечал ни звука, ни вечернего огня, ни дыма. Но стекло зимой и летом было наглухо замазано, значит, никто в сад не вылезал, и этого достаточно.
После молчания снова кто-то постучал в далекое окно и смирно смолк в ожидании ответа.
«Может, это ангел ходит ночью! — подумал Яков Саввич. — Сколько сейчас времени? — Он потрогал руками стрелки стенных сельских часов и узнал, что было час ночи. — Ангелу ходить пора! — решил он в уме. — Либо мне проклясть все и скрыться отсюда без поворота!. Чего я здесь живу умираю: странность одна!»
Он прислушался далее. Ангел по-прежнему постукивал в окно, но все более редко и без ответа.
«Застынет! — подумал Яков Саввич и встал с места. — Зори теперь холодные».
Он вышел наружу и позвал: «Эй, чертенок, иди сюда!»
— однако звука из его рта не раздалось, — от стеснения или от страха он говорил только в уме.
«Вот тебе раз! — подумал Яков Саввич. — Все вера в бога, будь она проклята!. По ягодным кустам, наверно, лез, сукин сын, изуродовал теперь растения».
Окно из глиняного дома отворилось целиком, вместе с рамой, и оттуда выставилось в сумрачный сад чье-то, не похожее на человека, лицо.
— Я все давно слышу! Чего тебе надо? — сказал скучный голос старухи, дыша словами не наружу, а внутрь, в свою пустую узкую утробу.
— А ты мама или нет? — спросил голос маленького ребенка, уставшего, должно быть, ходить по темной ночи.
— Я тебе чужая, — ответила старуха и вставила оконную раму обратно в проем стены.
Ребенок постоял немного, погладил глиняную стену рукой и пошел к кузнице, ступая по крапиве привычными ногами.
— Ты чей? — спросил его Яков Саввич.
— Я ничей, я отца-мать хожу ищу, — сказал мальчик лет четырех или пяти на вид.
— А я думал ты — ангел, стервец!
— Нет, я никто, — отказался мальчик.
— Жулик, что ль?
— Нет. Меня тетка загрызла, я хлеба много ем и портки протираю. Она ругается, — ступай, говорит, вон отсюда, ищи свою родную мать и отца, пускай они тебя кормят и водою поят. А я хожу-хожу, спрашиваю и говорю, никто их не знает.
— Кого? — спросил Яков Саввич.
— Ни отца, ни матери. А меня тетка за них по морде костяной рукою бьет.
— Вон что, — произнес среди своего молчания кузнец. — Жалко, что ты не ангел.
— Ничего, — сказал этот мальчик.
— А отец-то с матерью твои живут где-нибудь?
— Никто не говорит, пойду сейчас спрашивать, — ответил небольшой человек. — Может, есть, а ребят ведь много на свете, одного взяли и забыли.
— Ты маленький, а ведь умный! — удивился Яков Саввич.
— Я нечаянно стал, один живу,