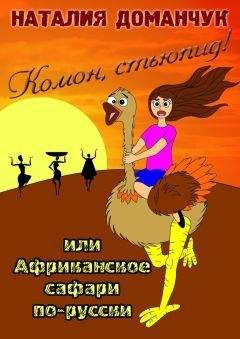Ознакомительная версия.
– Думаю, будет пороть, пока не устанет, потом отдохнет и снова начнет, – ответил Шон.
Они слышали, как лошадь Уэйта остановилась во дворе. Он что-то сказал конюху, и мальчики услышали его смех. Хлопнула дверь кухни, и наступили полминуты тишины. Затем Уэйт взревел. Гаррик нервно вздрогнул.
Еще десять минут они слушали, как Уэйт и Ада разговаривают на кухне – рев и успокаивающий голос перемежались. Потом в коридоре послышались шаги, и в комнату вошла Ада.
– Отец хочет вас видеть. Он в кабинете.
Уэйт стоял перед камином. В его бороду набилась пыль, а мрачно нахмуренный лоб прорезали морщины, словно борозды вспаханное поле.
– Входите! – проревел он, когда Шон постучал в дверь, и они вошли и остановились перед ним. Уэйт хлопнул хлыстом по ноге, и с его брюк для верховой езды полетела пыль.
– Иди сюда, – сказал он Гаррику, взял его за волосы и принялся поворачивать голову, осматривая синяк на лбу.
– Гм, – сказал он и выпустил волосы. Они остались стоять дыбом. Уэйт бросил хлыст на стол.
– Теперь ты, – велел он Шону. – Вытяни руки. Нет, не так. Ладонями вниз.
Кожа на руках была в ссадинах и покраснела, одна костяшка разбита и вздулась.
– Гм, – снова сказал Уэйт. Повернулся к каминной полке, взял с нее трубку и набил табаком из каменного кувшина.
– Вы пара обалдуев, прах вас побери, – сказал он наконец, – но я рискну, начав с пяти шиллингов в неделю на каждого. Идите поешьте… сегодня еще много работы.
Они несколько мгновений недоверчиво смотрели на него, потом повернулись к двери.
– Шон.
Шон остановился. Он знал, что происходящее слишком хорошо, чтобы быть правдой.
– Куда ты его ударил?
– Везде, па, везде, куда смог дотянуться.
– Это неправильно, – сказал Уэст. – Нужно бить сбоку, по голове, вот сюда, – он концом трубки показал на свою челюсть, – и плотнее сжимать кулаки, не то сломаешь пальцы, до того как повзрослеешь.
– Да, па.
Дверь за ним неслышно закрылась, и Уэйт позволил себе улыбнуться.
– Достаточно с них ученья, – сказал он вслух и чиркнул спичкой, чтобы раскурить трубку; когда табак затлел ровно, он затянулся и выпустил клуб дыма. – Боже, хотел бы я на это посмотреть! В следующий раз не станет связываться с моими парнями.
Теперь у Шона была своя беговая дорожка. Он был рожден для бега, и Уэйт Кортни вывел его из стойла, где он только злился, на волю. И Шон бежал, не думая о наградах, не сознавая дистанций – бежал радостно, что было сил.
Еще затемно, стоя на кухне с отцом и Гарриком, Шон с чашкой кофе в руках с нетерпением ждал наступления нового дня.
– Шон, возьми с собой Мбаму и Н’дути и проверь, нет ли отставших животных в зарослях у реки.
– Я возьму с собой только одного пастуха, па, Н’дути понадобится тебе у чанов с дезинфицирующим раствором.
– Хорошо. К полудню подъезжай к чанам, нам нужно прогнать сегодня тысячу голов.
Шон залпом допил кофе и застегнул куртку.
– Тогда я пойду.
Конюх держал его лошадь у кухонной двери. Шон спрятал ружье в чехол и вскочил на лошадь, не коснувшись ногой стремени; улыбнулся, повернул лошадь и поехал по двору. Было еще темно и холодно.
Уэйт следил за ним с порога.
«Он так в себе уверен», – подумал он. Вот сын, на которого он надеялся и которым мог гордиться.
– А что делать мне? – спросил стоявший сзади Гаррик.
– Так… в загоне для больных животных есть телки… – Уэйт остановился. – Нет, лучше пойдешь со мной, Гарри.
Шон работал ранними утрами, когда солнце, как в театре, покрывало все веселой позолотой, а тени становились длинными и черными. Он работал под полуденным солнцем, обливаясь потом; работал в дождь; в сером и влажном тумане, который спускался с плато; работал в короткие африканские сумерки и возвращался домой в темноте. И каждую минуту был счастлив.
Он научился узнавать животных. Не по кличкам – клички были только у тягловых быков, – но по размеру, цвету и клеймам, так что стоило ему скользнуть взглядом по стаду, и он сразу видел, какого животного не хватает.
– Зама, где старая корова со сломанным рогом?
– Нкози, – больше не уменьшительное «нкозизана», «маленький господин», – нкози, вчера я отвел ее в загон для больных, у нее червь в глазу.
Он научился распознавать болезнь чуть ли не раньше, чем она начиналась, – по тому, как двигается животное, как держит голову. Он узнал средства от болезней. Завелись черви – полить рану керосином, пока личинки не высыплются, как рис. Глаза больны – промыть их марганцовкой. Сибирская язва – пуля и костер для туши.
Он принял своего первого теленка под раскидистыми акациями на берегу Тугелы; один, закатав рукава по локоть и ощущая скользкие прикосновения к рукам. Потом, когда мать облизывала теленка и тот шатался под прикосновениями ее языка, у Шона сдавило горло.
Но всего этого было недостаточно, чтобы поглотить всю его энергию. Работал он играючи.
Шон совершенствовал искусство верховой езды – спрыгивал с седла и бежал рядом с лошадью, снова вскакивал ей на спину, соскакивал с другой стороны, на всем скаку вставал в седле, потом шире расставлял ноги, снова садился, и его ноги безошибочно отыскивали стремена.
Практиковался в стрельбе, пока не научился попадать в бегущего шакала за сто пятьдесят шагов, тяжелой пулей поражая середину тела животного.
И еще нужно было выполнять работу Гаррика.
– Я плохо себя чувствую, Шон.
– Что случилось?
– Нога болит. Знаешь, натирает, когда я много езжу верхом.
– А что домой не идешь?
– Па велел починить ограду у чана номер три.
Гаррик держался за лошадь, растирая ногу, и улыбался легкой храброй улыбкой.
– Ты чинил ее на прошлой неделе, – возразил Шон.
– Да, но проволока опять распустилась.
Все, что чинил Гаррик, непостижимым образом тут же снова выходило из строя.
– Есть у тебя ножницы для проволоки?
Гаррик с готовностью достал их из седельной сумки.
– Я сделаю, – сказал Шон.
– Эй, парень, спасибо. – Потом, после секундного колебания: – Ты ведь не скажешь па?
– Нет. Ты ведь не виноват, что у тебя нога болит.
И Гаррик возвращался домой, тайком пробирался в спальню и убегал на страницы «Острова сокровищ» к Джиму Хопкинсу.
Работа стала для Шона источником новых переживаний. Когда дожди возрождали зеленую траву и заполняли водой мелкие впадины на плато, это перестало означать только, что начался сезон гнездования птиц и что теперь рыба в Бабуиновом ручье будет лучше клевать; это означало, что можно выводить скот из долины, что животные, которых они отправят в загоны для продажи в Ледибурге, нагуляли жир; это значило, что закончилась еще одна зима и земля вновь готова порождать жизнь и богатство. Новое чувство распространялось и на скот – сильное, почти свирепое чувство собственника.
Ознакомительная версия.