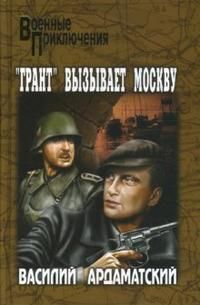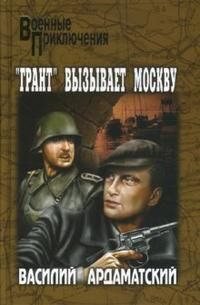— А что нам думать, пусть они думают! — беспечно сказал портной. — Взяли господа город, извольте наладить в нем жизнь. А я как шил мужское платье, так и буду шить, весь вопрос — достать у немцев выкройки, какие у них в моде. — Он помолчал и спросил: — А вы чего же оставались, если не знали, что будете делать?
— Так вот вышло. Собирался с заводом, а все уехали без меня.
— Это у нас вполне возможное дело, — ядовито заметил портной. — В общем, все есть, как есть, и надо идти обедать. Будьте здоровы, — он коснулся пальцами полей шляпы, поклонился и медленно пошел по улице…
В этот же час Мария Степановна Любченко, врач местной туберкулезной больницы, смотрела на ту же улицу из окна своей квартиры. Она стояла в глубине комнаты, чтобы с улицы ее не увидели. Каждый раз, когда от двигавшейся по улице техники звякали стекла в окне, она вздрагивала. Ей было страшно. Месяц назад, когда ей в горкоме партии сказали, что нужно остаться для подпольной работы, она заявила прямо:
— Я боюсь.
— Ничего страшного, Мария Степановна, — сказал ей работник горкома. — С автоматом и гранатой вам орудовать не придется. К вашим услугам подпольщики прибегнут только в крайнем случае, если вдруг понадобится спрятать в больнице кого-нибудь.
— Но в больнице каждый знает, что я член партии, меня выдадут, — ужаснулась Любченко.
— Во-первых, вы в партии без году неделя, — быстро раздражаясь, возразил работник горкома. — Во-вторых, нам известно, что в больнице про вас судачили, будто вы пошли в партию из-за карьеры, чтобы стать главным врачом. Почему бы вам эту мысль теперь не поддержать? И как доказательство — вы остались в городе. Наконец, Мария Степановна, разве вы, вступая в партию, не писали в своем заявлении, что готовы выполнить любое ее задание?
Мария Степановна чувствовала, что с ее боязнью этот человек не посчитается, а других аргументов у нее не было. И тогда она подумала: “Пожалуй, немцы продержатся в городе недолго, так что, может, мои услуги никому и не понадобятся, а то, что я здесь останусь, потом мне зачтется”. И она дала согласие.
Но теперь, наблюдая через окно движение немецких войск, Мария Степановна горько об этом жалела. Если бы даже она осталась, но просто как врач, который не смог покинуть своих больных, ей сейчас не было бы так страшно. Ее пугала мысль, что она не сумеет справиться с порученным ей тайным заданием и что об этом тайном могут узнать немцы… Страшно даже подумать, что тогда будет.
Звякнуло окно — Мария Степановна вздрогнула…
В этот же час Павел Харченко, в нелепом своем казенно-щегольском одеянии, стоял в заросшем акациями дворике и в щель забора смотрел на двигавшиеся по улице гитлеровские войска.
Он скрипел зубами от досады — все у него получилось так нелепо и глупо…
Какой-то майор, корчивший из себя осведомленного, сказал ему вчера, что немцы остановлены в тридцати километрах от города. И Харченко решил сегодня с утра спокойно искать для себя простую одежду, а затем жилье. Он отправился на рынок, но там было пусто. Возвращаясь, он шел переулками и вдруг, когда до главной улицы оставалось шагов сто, не больше, увидел немецкие военные машины. Не раздумывая, Павел вскочил в первый попавшийся двор и вот уже четвертый час стоял здесь, не зная, что предпринять. Страха он не испытывал, но просто не знал, что делать, и казнил себя: он не имел права поверить этому майору.
Когда начало смеркаться, Харченко подошел к домику, по самую крышу оплетенному виноградником. В этот момент из домика вышел высокий сухощавый старик с взлохмаченными седыми волосами. Он стоял, подняв лицо вверх, и прислушивался. Ветерок шевелил его вздыбленные волосы. Потом он направился к калитке и выглянул на улицу.
— Митя, вернись сейчас же! — послышался из домика женский голос.
Старик прикрыл калитку, задвинул ее засовом и, шаркая ногами, пошел к дому.
— Здравствуйте! — тихо произнес Харченко, когда старик поравнялся с ним.
Старик остановился, спокойно вглядываясь в сумеречный сад. Харченко вышел на дорожку. Старик смотрел на него без всякого удивления и испуга.
— Здравствуй, коли не шутишь, — сказал старик. — Интересно, однако, что ты тут делаешь?
— Прячусь, батя.
— От кого, однако?
— От кого теперь можно прятаться советскому человеку?
Старик оглядел его с головы до ног и сказал:
— Ну что ж, заходи в дом, гостем будешь.
В доме были две комнаты, разделенные перегородкой не до потолка. На перегородке стояла коптилка, сделанная из аптекарского пузырька. Свет от нее был очень тусклый, и Харченко не сразу разглядел, что в углу за столом сидела женщина.
— Гость обнаружился, — сказал ей старик.
— Какой еще гость в такое время? — спросила она удивленно, но не сердито.
— Он, однако, прячется, Анна, этот человек, понимаешь? — старик сел к столу и пригласил присесть Харченко.
Харченко молчал, ему хотелось, чтобы говорили старики — надо знать, чем они живут, чем дышат. Может статься, что тут и минуты нельзя находиться.
— Ты что же, отстал, что ли, от своих? — спросил старик.
— Ну отстал, если хотите…
— Я-то хочу спать, однако, спать спокойно, — строго сказал старик.
— Одним словом, попал я в беду, и все тут.
— Всем лихо, — проворчал старик.
— Тому, у кого крыша над головой, все же полегче, — сказал Харченко.
— И ты не с неба свалился, — сказал старик и спросил: — Где, однако, твоя крыша?
— Далеко, батя, отсюда, очень далеко, — печально сказал Харченко. — Я не здешний, вот как вышло-то.
Старики молча глядели друг на друга, потом женщина сказала:
— Ладно, ночуй у нас, а утром все будет виднее.
— Позади дома, в клети, койка есть, постели сена, — ворчливо добавил старик.
Харченко встал:
— Спасибо.
— Чего вскочил? — вмешалась женщина. — Поужинаешь с нами, тогда и спасибо скажешь.
Старик не унимался и за ужином, все старался заставить Харченко рассказать, кто он и откуда. Харченко как мог выкручивался, а заодно прощупывал хозяев дома. Но и они не спешили открываться.
Старик завел разговор о войне. Харченко стал рисовать картину войны совсем не такой безнадежной, какой она виделась этим людям.
— Послушать тебя, так и горевать не о чем. Однако немцы в нашем городе, а не мы с тобой в ихнем, — сказал старик.
— А что тебе, батя, от того, кто в городе? — спросил Харченко.
— Дурак ты, однако.
— Зачем же, батя, ругаться? Я про то, что виноград в саду и так и так созреет и в цене будет. А на хату твою разве кто позарится?..
— Я, однако, не в хате живу, а в государстве, — проворчал старик.