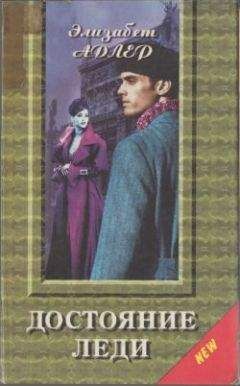— Ты просто, как этот, Буркашов! — восхитился Юра.
— Увы, нет, — вздохнул Прошка. — Много пришлось в свое время передумать, как же остаться живым и по возможности наиболее здоровым. Там, в лесу. Тяжелый был год.
Все замолчали и принялись смотреть в окно, где мелькали столбы и проносились мимо какие-то хибары, похожие на жилища дехкан.
— А про Буркашова вот что я вам, господа студиозусы, скажу, — нарушил паузу Прошка, перевернув нагревшиеся пятаки, и снова прижав их к щеке. — Если он действительно такой честный человек, каким себя кажет, то рано или поздно, когда совсем устанет от так называемой борьбы, уйдет в монастырь.
— Это как? — сразу все вместе удивились остальные.
— Будет искать ответы на все вопросы у Бога, монахом станет, или священником.
Никто не стал отвечать на подобное предсказание, каждый, думая о чем-то своем, уставился в пыльное окно. Юра вспоминал родителей и злился на себя: переживая за них, хотелось самому исправить положение, чтоб было все как прежде. Но как, черт побери?
Слава богу, что скоро случился Питер, недалекие «Пять углов», ресторан «Садко», поблизости от которого всегда можно было приобрести «Ркацетели», или «Вазусибани» по два семьдесят за бутылку.
Прошка как-то сам собой стал негласным лидером их питейного сообщества, почти гуру.
Иногда Юра по утрам решался пойти на подготы, но, подходя к ЛИИЖТу, желание пропадало, он выруливал на Майорова, заходил в некруглосуточный переговорный пункт и звонил в Смоленск. Он разговаривал с друзьями, один раз даже номер автоответчика кинотеатра набрал, внимательно прослушал весь репертуар, но связаться с домом не решался. Телеграмма, что у него все в порядке, готовится к экзаменам, было единственное, что он позволил себе за это время.
Как-то днем съездил за компанию с Прошкой на Елизаровскую, где жил очень интересный человек, сосед «гуру» по даче. Человек оказался профессором с кафедры философии одного из питерских вузов, Владимир Залманович Дворкин.
— Заходи, заходи, Игорь, — сказал профессор, но, увидев, что посетителей было двое, добавил:
— Проходите, парни. Чайку?
Прошка, который, оказывается, в другой жизни назывался Игорем, легко согласился:
— Это — Юра. Он из Смоленска. Пока абитуриент. Думает поступать к нам.
Пока за чашкой чая Дворкин передавал Прошке наказы и приветы родных и близких, выставлял какие-то обернутые в газеты банки, Юра осторожно присматривался. Просто так, из любопытства.
Квартира была самая обыкновенная, никакой экзотики или антиквариата, никакой вычурной электроники, книг, правда, очень много. На холостяцкое жилище тоже не походило: чувствовалась системность и опрятность вещей, какие может им придать только женщина. Сам хозяин квартиры был чуть старше пятидесяти, седые волосы аккуратно подстрижены, будто только из парикмахерской. Правую щеку портил глубокий и давний шрам. Из-за него скула была, словно с гигантским флюсом, отчего, наверно, и речь профессора казалась чуть невнятной. Но этот дефект не делал Дворкина уродом, во всяком случае, не хотелось постоянно бросать взгляд на эту опухоль.
— Были тут недавно на Буркашевской сходке, — поделился воспоминаниями Прошка.
— И вас не изловили милиционеры? — чуть усмехнулся профессор.
— Русбой — это сила, — вставил Юра, припоминая слова того здоровяка.
— Все-таки, молодой человек, в нашей жизни силой многого не добиться, — обратился к нему Дворкин.
— А чем же еще? — вырвалось у Юры, хотя он и сам прекрасно мог себе ответить.
— Терпением и силой воли.
— Иначе говоря, верой, — сказал Прошка.
— Молодец, Игорь, — кивнул головой профессор. — Армия тебя многому хорошему научила.
— Ну, да, — поджал губы Прошка. — Живой вернулся — и то, слава богу.
Дворкин встал со своего места и, не спрашивая разрешения, налил всем еще по одной чашке чаю.
— Не будем о грустном, — сказал он. — Вы вот что мне скажите: обратили внимание на их герб?
— Ну, фашистская свастика, — пожал плечами Юра. — Почти.
Профессор откинулся, было, на стуле, но потом встал, и подошел к книжной полке. Он вернулся за стол с книгой в руках.
— Свастика — это точно, — сказал он. — Но вряд ли фашистская. Вот взгляните на эту книгу, которая издалась уже при советской власти. Это подарочный вариант карело-финского эпоса «Калевала».
Парни начали разглядывать книгу, где на каждом рисунке, если приглядеться, можно было увидеть все ту же свастику: и в узорах на вышивке, и выдолбленной на камне, и на женских украшениях, и на рукоятях мечей.
— Вот тебе раз, — удивился Юра. — А я думал, буркашевцев за их пропаганду фашистской символики гоняют.
— Свастика — это не фашизм. Только очень мало народа это понимает. Но дело не в этом.
— А в чем же? — задал вопрос Прошка, чем удивил своего товарища: Юре казалось, что уж кто-кто, а Прошка все знает.
— Мы, молодые люди, забываем свою историю, — сказал профессор. — Не ту, что в школе и институте учат, а истинную историю. Определенными людьми прикладывается немалое усилие, чтобы мы потеряли наследие наших великих предков. И очень жаль, что эти люди диктуют всему обществу, как жить, и что такое правда.
— Как Наполеон? — поставив чашку, спросил Юра.
— Как несколько маленьких наполеонов.
— А каков смысл? — пожал плечами Прошка.
— Вот скажите мне, молодые люди, когда наступил пик бездуховности в нашем государстве? Еще слово такое возникло: атеист, что служило поводом для гордости, вопросом на вопрос сказал Дворкин.
— После революции, конечно, — ответил Юра. — Или, быть может, после расстрела царской семьи.
— Ты согласен со своим другом, Игорь?
Прошка развел руками:
— Ну, вообще-то — да.
— А мне вот что-то кажется, что немного раньше, — подняв брови, чуть кивнул профессор и продолжил. — Это, конечно, мое субъективное мнение, но мне кажется, что после смерти Григория Распутина — Новака. Это сейчас в книгах и фильмах, особенно голливудских, любят выставлять Распутина мерзавцем, вором и проходимцем, пьяницей и насильником. Но каким же тогда образом он приблизился к царской семье настолько, что его почитали, как святого старца? Ведь Николая Второго можно обвинять в некоторой бесхарактерности, но уж никак не в глупости.
— Он, Распутин, был талантливый гипнотизер. Лечил Царевича Алексея от гемофилии, — сказал Прошка.
— Не очень мудрая версия. Но очень распространенная. Наверно, ее запустили еще Хвостов и Белецкий — высокопоставленные царские чиновники, ярые враги Распутина. А, может быть, Симанович — еврей, который изображал из себя поклонника Распутина, но на деле создавший своеобразную очередь на прием к «святому старцу» и за определенную мзду устраивающий «доступ к телу» без ожидания своего часа. В основном, помогал богатым евреям, устроил «жидовское лобби», как писали тогда современники. Хотя, вполне вероятно, что и отец Илиадор, сбежавший, по-моему, при царе в Хельсингфорс, злейший враг Распутина, приложил к этому мифу свою руку. Руку будущего чекиста Труфанова, кем он стал после революции. Забавно: святой отец стал чекистом. Но после смерти Распутина Россия кубарем покатилась в анафему какую-то. Расплодились не просто атеистические кружки, но и откровенно богохульственные. Заметьте: глубоко верующая Российская империя за несколько лет ухнула в воинственный атеизм. Почему? Потому что объявили Распутина антихристом? Вопреки истине из святого сделали грешника? Перевернули у народа понятие о вере: все святое — не святое? Вот она деятельность наполеонов.