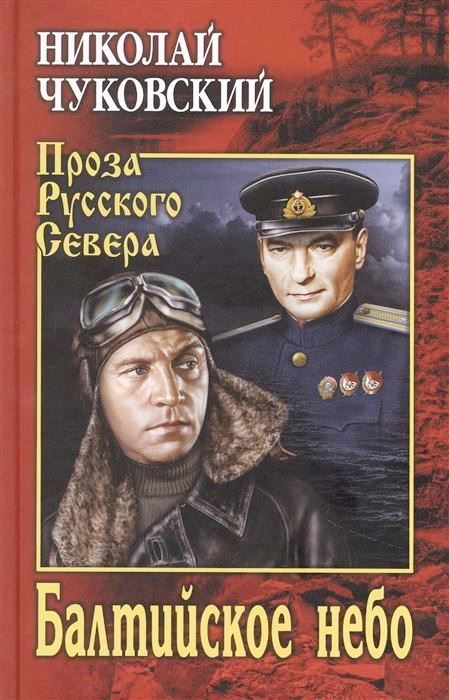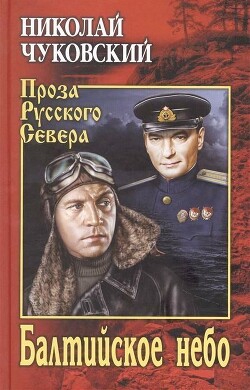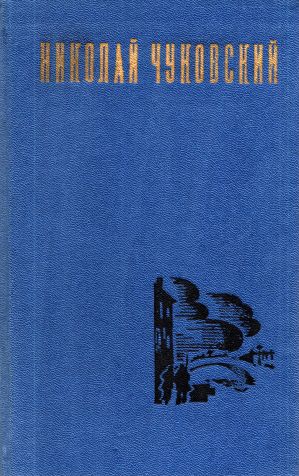class="p1">Он больше ни в чем ее не винил. Ему даже странным и удивительным казалось, что он так долго и упорно считал ее виновной. В чем?
Разве она обязана была его любить? За что? Что он сделал такого? Он поселил ее в глуши, на аэродроме, он был занят самолетами, видел ее только по ночам и нисколько не интересовался ее жизнью, заранее почему-то уверенный, что она всем довольна. И при одной мысли о том, что она любит не его, а другого, он весь отдался гневу и ярости. Он и знать ничего не хотел, он хотел судить и наказать… За что судить и наказать?
И вот опять на мгновение две их жизни случайно встретились. Она об этом никогда не догадается. Ей и в голову никогда не придет, что он охранял самолет, в котором она летела, что он видел ее, больную, на носилках… Чем она больна? Выздоровеет ли она? Он никогда даже не узнает, выздоровела она или нет… Муж, хромая, шел рядом с носилками. Этот человек, несомненно, любит ее, это было видно по каждому его движению. Лунин не испытывал ни малейшей вражды к ее мужу. А какая у них девочка! Лизина девочка!.. Может быть, если бы у Лунина и Лизы были дети, ничего не случилось бы… И он опять без конца вспоминал ее голос, руки, смех, ее лицо, склоненное над книгой. Всё безвозвратно…
Они с Татаренко были свободны до вечера следующего дня и с утра поехали в город. Выйдя из трамвая, они долго бродили по мокрым улицам. Лунин молчал. Татаренко стал рассказывать ему о своей вчерашней встрече на пригородном аэродроме с летчиками-штурмовиками, теми самыми, которых они столько раз охраняли во время штурмовок. В стольких боях побывали они с ними вместе, а на земле ни разу не видались.
— Штурмовики меня сами разыскали, — рассказывал Татаренко. — Я стою, курю, вдруг слышу — кто-то сзади говорит: «Вот лунинец».
Лунин нахмурился.
— Мы рассохинцы, — сказал он.
— И рассохинцы и лунинцы. Все знают, что рассохинцы и лунинцы — одно и то же… Оборачиваюсь, смотрю, — майор и два капитана. Трясут мне руку, обхватили за плечи, бьют по спине. «Вот, — говорят, — кто нас столько раз выручал!» Это не про меня, конечно, а про всю нашу эскадрилью. Они каждого нашего летчика знают, сразу узнают в воздухе. Вот уж мы с ними поговорили, повспоминали…
Впереди виден был мост, ведущий на Васильевский остров.
— Куда мы идем? — вдруг спросил Татаренко.
Ему только сейчас пришло в голову, что Лунин ведет его куда-то.
Лунин тряхнул головой и посмотрел по сторонам. Он, кажется, сам забыл, куда собирался идти. Потом вдруг вспомнил:
— К Соне. Надо же где-нибудь подождать…
Татаренко остановился посреди тротуара:
— Не пойду.
— Почему?
— Ну, словом, не пойду.
— Да почему же?
— Она вовсе не желает меня видеть.
— Вы в этом уверены?
— Ясно, уверен.
Лунин внимательно посмотрел на Татаренко.
— Проводите меня, — сказал он решительно. — Я подымусь к ней, а вы подождете меня на дворе…
— У нее на дворе не хотелось бы, товарищ майор…
— Ну, на набережной против университета.
— Есть подождать на набережной!
Соня очень обрадовалась Лунину, поспешно повела его на кухню, усадила за кухонный стол, заваленный учебниками и тетрадками, и сразу же стала готовить ему чай.
Он подивился, как она повзрослела и похорошела за то время, что он ее не видел.
Заговорили они, конечно, прежде всего о Славе. Лунин похвалил Славу за то, что он неплохо учится, и сказал, что, если Слава и впредь будет так же любить самолеты, из него может выйти хороший инженер.
Он стал расспрашивать Соню, как она живет, и она охотно ему отвечала. Жизнь ее попрежнему делилась между работой и подготовкой к экзаменам. По прежнему ей не хватало времени на занятия, а ведь до экзаменов осталось меньше полугода. Лунин видел, что экзамены действительно очень тревожат ее, — она даже менялась в лице, когда говорила о них.
Рассказывала она и о своей работе. Слушая ее и глядя на нее, Лунин думал о том, сколько уже повидали ее молодые глаза, сколько уже сделано ее девичьими, почти детскими руками…
О Татаренко она ничего не спросила. И Лунин осторожно заговорил о нем сам. Он как бы невзначай упомянул, что прилетел в Ленинград вместе с Татаренко. Глаза ее стали строгими, блеск в них потух. Она сразу перевела разговор на другое. Но по лицу ее Лунин безошибочно видел, что она взволнована. Она теперь сама заговорит, только нужно подождать. И он ждал.
И она заговорила. Но не о Татаренко, а о Хильде.
Так вон оно что! Лунин в глубине души усмехнулся.
Она сказала, что у них в эскадрилье ей очень понравилась Хильда. Правда, Хильда удивительно красива? Лунин этого не мог отрицать.
— Мы так к ней привыкли, что уже не замечаем ее красоты, — сказал он. — А надо признать, она на редкость красивая девушка. Как фарфоровая: голубые глаза, нежно-розовые щёки. Ноздри, губы, уши — всё словно выточено.
— Один только недостаток, — сказала Соня: — слишком неподвижное лицо. Я не могу понять, умна ли она.
Этот вопрос поставил Лунина в тупик. Никогда не задумывался он над тем, умна ли Хильда.
— Она умна сердцем, — сказал он, стараясь быть справедливым.
Он объяснил, что Хильда — девушка с глухого эстонского хутора, дочь батрачки, и всё образование ее — два класса сельской школы. Требовать от нее глубоких познаний нелепо, но в жизни она безошибочно чувствует, где правда. Она прошла весь боевой путь эскадрильи вместе с летчиками. В самые трудные времена она отлично делала свое маленькое дело и была верным товарищем. И летчики так привыкли к ней, что уже не могут представить себе свою эскадрилью без Хильды. Она как бы связывает воедино прошлое эскадрильи с настоящим, она им особенно дорога тем, что была дружна с теми, кого уже нет, — с Байсеитовым, Чепелкиным, Кабанковым. Рассохин, их прежний командир, перед самой своей смертью заботился о Хильде, отдал ей свой тулуп…
— И он обязан любить ее и не смеет ее мучить! И вы, как его командир, должны сказать ему…
Сонины черные брови сошлись над переносицей, глаза заблестели, щёки горели.
— Кому? — спросил Лунин, делая вид, что ровно ничего не понимает.
— Вашему Татаренко!
Соня встала.
Вмешательство необходимо было немедленное.
И Лунин засмеялся.
Он вслушивался в свой смех и радовался, что смеется так естественно.
— Татаренко? А при чем здесь Татаренко? — Лицо его выражало полное недоумение. — Вздор! Чепуха! — Он продолжал смеяться. —