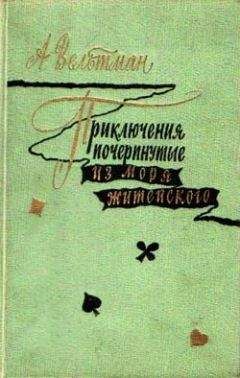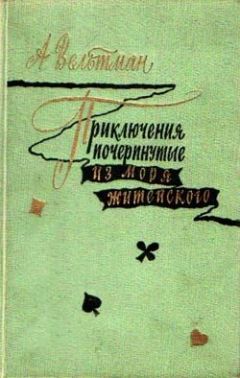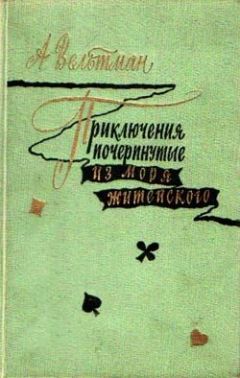– Любопытно побывать на этих вечерах.
– За чем же дело стало? поедем завтра на великолепный литературный вечер к Звездову.
– И он литератор?
– А ты его знаешь?
– Как же, он служил в Петербурге.
– Так и прекрасно: я сегодня увижу его у мадам Recuell и скажу, что я познакомился с тобою и что завтра ты к нему будешь на вечер. Там вся московская поэзия и проза, славянофилы, скандинавофилы, франкофилы и простофили.
– В самом деле поеду. Может быть, я там встречу и одну сочинительницу, которая меня интересует.
– Не одну, а тьму встретишь. Ну, прощай.
«Чудак, – подумал Рамирский, – какой славный малый и как погиб безвозвратно!»
На другой день Рамирский долго ждал пробуждения Дмитрицкого, который, по обычаю магнатов, началом дня считал ие восход солнца, не любил утреннего ребяческого его света, но считал день, как следует, с первого часу. Не дождавшись этого часа, Рамирский уехал прежде всего посетить неизбежный Опекунский совет, потом некоторых дальних родных и давних знакомых и, между прочим, заехал к четвертого класса Звездову [271], который очень внимательно его принял, изъявил удовольствие, что он посвятил себя литературе, и пригласил на свой литературный вечер.
«Я занимаюсь литературой? – подумал с удивлением Рамирский, – ах, чудак этот Дмитрицкий! он без шуток и мистификаций не может шагу сделать! Посвятил меня в литераторы!»
– Жаль, что мне сейчас надо ехать по делу, – сказал Звездов, – а то я бы прочел вам на досуге стансы к Москве, которые я сию минуту только написал… Но еще, я думаю, можно будет… Это, собственно, десять слов к Москве… Сейчас принесу.
«О, господи! попал на муку», – подумал Рамирский.
К счастию его, вошел какой-то господин с огромною тетрадью в руках, всматриваясь прищуренными глазами сквозь очки на окружающие предметы.
– Ваше превосходительство… Ах, извините, – сказал он, заметив свою ошибку; сел, положил тетрадь свою на стол и начал протирать платком и искусственные и настоящие свои глаза.
– Вот, это, собственно, десять слов, – раздался еще в дверях голос хозяина.
– Ах, ваше превосходительство! – проговорил пришедший господин, вскочив с места и схватив свою тетрадь.
– А! – проговорил хозяин с неудовольствием. – Вот это…
– По вашему желанию прослушать, я привез, ваше превосходительство, – перервал его господин в очках, развертывая свою тетрадь, – я сперва прочту вступление… Перевод такого писателя, как Гете, требует пояснений, – продолжал он, обратясь к Рамирскому.
– Я прошу у вас извинения, – начал было хозяин с досадой, желая отделаться от предлагаемого чтения. – А как же вы полагаете, ваше превосходительство, – перервал его порывистый господин в очках, – неужели вы думаете, что не должно объяснять читателям дух писателя?… Нет, должно, должно: это ключ к смыслу его сочинений, притом же каждый может понимать иначе.
Рамирский, не ожидая дальнейшего развития речи, встал.
– Куда ж вы?… – крикнул испуганный хозяин, что его оставляют одного на жертву прищуривающемуся господину в очках.
– Если позволите, я буду ввечеру.
– Какая досада, что не удалось мне прочесть вам… Вот, как видите, всякой день приходят ко мне на суд с своими кропаньями, – тихо сказал в зале Звездов, провожая Рамирского. – Итак, до вечера.
Возвратившись в гостиницу, Рамирский не застал уже дома Дмитрицкого. Он приехал часу в восьмом.
– А! дома! Не забыл, что сегодня едем на литературный вечер. Да теперь еще рано: часов в десять, даже в одиннадцать.
– Помилуй, к чему ты сказал Звездову, будто я сочинитель?
– Что ж такое? Разве это компрометирует тебя?
– Хм! Нисколько не компрометирует, да для чего ж это?
– Как для чего? Для того чтоб на тебя смотрели как на литератора. Литераторы теперь в ходу. Ты думаешь, что в салонах трудно быть ученым, поэтом, писателем, критиком? Пустяки! Ты послушай, как я заговорю об индейской и еврейской поэзии. Приехать в салон не то, что приехать к Солону и смотреть дураком да удивляться греческой премудрости: салон – страна малознающих, плохознающих и ничего не знающих, но желающих казаться всезнающими. Взаимное надувание, взаимная снисходительность, вот и все, и квит с дубинкой. Например, я в глаза не видал Европы, но имею же об ней понятие, и довольно. Спрашивают меня: вы, верно, были в Неаполе? Я отвечаю с живым восторгом воспоминания: «В Неаполе? Ах, это очарование! море, Везувий, извергающий пламя – этого рассказать нельзя!» И нечего рассказывать, довольно, восхищение возбуждено, чего же еще больше?… Однако ж пора сбираться; одевайся, mon cher; впрочем, «запоздать» ничего не значит; неприлично «заранить».
К десяти часам туалет был кончен, и они отправились к. Звездову. У подъезда швейцар звякнул в колокольчик. Они вошли. Зала была озарена стенными светилами, но еще пустынна; ломберные столы, как жертвенники, на которых убивалось время, стояли уже наготове; повсюду в доме еще тишина, от которой можно вздрогнуть.
– Не рано ли?. – спросил Рамирский, – никого еще нет.
– Нет, в гостиной есть уже хоть безжизненные, но живые люди, voyez-vous? [272]
На диване и подле него на креслах сидело несколько дам, как на сеансах: каждая приняла положение, выгодное для портрета. С одной из них, как с почетным членом заседания, разговаривала хозяйка; но так чинно, тихо и безмолвно, что каялось, они смотрят друг другу в глаза за спором, кто первый моргнет.
Около стен, на креслах, сидело несколько мужчин, как будто пришпиленных каких-то насекомых в коллекции натуральной истории. Все были в белых и желтых перчатках, все держали обеими руками свою шляпу, чтоб не выпала из рук от задумчивости, и все до одного, без сомнения, были, как говорится, свои или что-то вроде таких, которым делают особенную честь приглашением. Можно было принять их и за подчиненных в гостях у строгого начальника. Можно было принять их даже за нанятых, чтоб наполнять пустоту около стен. Хозяин как будто остерегался дать им какое-нибудь значение своим вниманием. Он сидел подле столика с лампой и просматривал газету. Заметив пошедших гостей, он встал довольно важно, взял Рамирского ta руку и, обратясь к жене, проговорил:
– Ма femme! [273] – Потом занялся разговором с магнатом.
Хозяйка взглянула на представленное ей новое лицо, без особенного значения в свете, качнула головой в знак приветствия, вытянула эластические губки в знак удовольствия и, снова придя в нормальное положение, обратилась к даме, сидящей на диване.
Рамирский, не зная, что с собой делать, опустился на кресла и заметил, что подле него сидит очень хорошенькое существо в задумчивом расположении духа. Матовое бледное личико, черненькие глазки заинтересовали его.