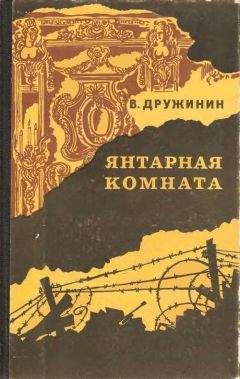— Она же отдала свой «манлихер» Алоизу Крачу! Трусу, белоручке!
— У нас был еще пистолет, — сказал Кайус. — Такой же, «манлихер». Я поднял его под Варшавой на поле боя. Он не числился за мной, понимаете; я никому не докладывал… Он лежал в машине, под сиденьем. И я дал ей.
И она не воспользовалась? Мысли мои смешались.
— Я могу вам показать квартиру, — услышал я. — Вы посмотрите сами как следует. Могло статься, я не доглядел тогда… Пожалуйста, господин лейтенант.
— Нет, — сказал я. — Не господин. Товарищ лейтенант! Товарищ!
Я крепко пожал обе руки Кайусу Фойгту. Немцу, другу Кати, который действительно вышел ко мне навстречу. Настоящему товарищу.
— Здесь, — сказал Фойгт.
Серый пятиэтажный дом, опоясанный балконами. Бомбы почти не задели его. На балконах — в горшках и лотках — зеленеет салат. «Любимый марципан» — написано над пустыми окнами нижнего этажа. А вот «Клуб черноголовых». Золотой нимб святого Маврикия пробит пулей. Лепные фигуры всадников в шлемах украшают фасад. Над входом дата — 1562. Здание изъедено трещинами. Если бы не дома, подпирающие его с боков, оно, верно, рассыпалось бы в прах.
Напротив, за бульваром, превращенным в бурелом, — россыпи кирпича, опаленные стены. Чудом уцелевший квартал кругом охвачен «городом развалин», как прозвали немцы разрушенные центральные районы Кенигсберга. Где-то поет пила — режут дрова для железной печурки, затопленной в подвале, или мастерят подпорки для временного пристанища среди руин. Толстый старик едет на трехколесном велосипеде, везет остатки скарба — подушку, ночные туфли, расписанный незабудками кофейник.
Мостовая усеяна битыми пузырьками, картонными коробочками, имуществом аптеки, взлетевшей на воздух. Мы идем, с хрустом топча стекло. Железные ворота, ведущие во двор, перечеркнуты пулеметной очередью.
Фойгт в нерешительности остановился. Перед нами — лагерь беженцев. Шкафы, умывальники с фарфоровыми тазами, ширмы, гирлянды сохнущего белья. На складной кровати зашевелился человек с забинтованной шеей. Кай направился к нему. Больной сипло закашлял. Нет, он не знает фон Шехта. Только сегодня въехал сюда.
— Ich bin total ausgebombt[2], — простонал он и закрылся одеялом.
Тягучее, заунывное пиликанье губной гармошки неслось сверху, из окна. Музыка оборвалась, басовитый голос крикнул:
— Фон Шехт в шестнадцатой. Только нет его, давно нет, Сбежал, негодяй.
На нас смотрел, улыбаясь, плечистый мужчина в рабочей куртке. От гармошки, блестевшей на солнце, бежали по асфальту, по шкафам, по посуде веселые зайчики.
Конечно, не следовало так громко спрашивать дорогу и называть во всеуслышание это проклятое имя. Кай должен был сам как-нибудь вспомнить. Я должен был предостеречь его… Словом, я совершил оплошность…
Мы не сделали и десятка шагов к парадной, загороженной огромной вешалкой красного дерева, с оленьими рогами, как раздался негромкий, глухой звук. Не выстрел, скорее щелчок. Кай зашатался и упал навзничь. Я кинулся к нему, расстегнул куртку, увидел кровь.
Это было так неожиданно — кровь, нападение во дворе жилого дома, в покоренном и уже притихшем городе, что я с минуту топтался возле Кая, беспомощно озираясь.
Сбегались люди. Что-то блеснуло, ко мне сквозь толпу протолкался немец с губной гармошкой. Он вложил ее в карман; мы подхватили Кая и понесли к воротам. Водитель-сержант завидел нас из «виллиса» и поспешил на помощь.
— Везти нельзя, — сказал немец. — Надо скорее… Тут есть врач.
— Вы не видели, кто стрелял? — спросил я.
— Нет. Я ничего не слышал даже… Вижу — он упал. Проклятье! Неужели еще мало всего этого? — Он задыхался от гнева. — Стрельбы, мучений…
Не доходя до ворот, мы повернули к крыльцу. Крутая, узкая лестница привела нас под самый чердак.
«Augendiagnostik», — прочел я на двери. Открыл человек в халате не первой чистоты, рыжий, поджарый, в оббитом, словно обкусанном пенсне.
Кая уложили на кушетку. Кабинет был до странности пуст. Несколько пакетов с лекарствами в поставце. Никаких инструментов, если не считать лупы на столике у кресла, небольшой, цилиндрической лупы ботаника или часовщика. И еще удивило меня огромное, в красках, изображение человеческого глаза, прибитое к стене и наполовину задернутое марлевой занавеской. Признаюсь, я с некоторым недоверием следил, как Иеронимус Кимбл ощупывал Фойгта.
Раненый дернулся и провел пальцами по лицу, словно согнал что-то.
— Кимбл хороший врач, — промолвил немец, помогавший мне. — Он поглядит вам в глаза и сразу скажет, что у вас. Тут, по этому рисунку, — он потянулся к плакату и показал радужную оболочку, испещренную клеточками и точками, — все можно определить. Тут все отражается.
«Хиромант какой-то», — подумал я. Немец говорил раздельно, как на уроке.
— Кимбл учился в Бразилии, — прибавил он. — Глазных диагностиков всего одиннадцать. Во всем мире.
Кай запрокинул голову, скрипнул зубами и еще раз согнал что-то с лица.
— Он немец? — спросил Кимбл.
— Да, — ответил я.
Раненый затих. Кимбл сунул стетоскоп в карман и запахнул халат.
— Русский, немец, поляк — теперь это все равно, — проговорил он в сердцах. — Мертвые не имеют национальности. Они равны.
Кай лежал вытянувшись. Мой спутник тронул меня за рукав.
— Кимбл честный врач, — сказал он по слогам. — Клянусь, господин офицер.
— Кто его? — спросил врач.
— Соотечественник. — Немец скривил губы. — Тоже сын Германии. Вроде фон Шехта. Боже мой, когда же это кончится!
Он не отводил от меня прямого, скорбного взгляда. Кай умер? Я не хотел верить этому. Я ждал, что Кимбл тряхнет своей рыжей гривой и бросит, улыбаясь: «Отлежится», «Через недельку встанет» или что-нибудь в таком роде. И вдруг — умер! Убит вражеской пулей, И не вернется в свой Розенштадт. Убит в весну победы. Убит, когда все кругом взывает: довольно смертей! Когда земля, кажется, уже полна мертвецов. Не может принять их больше.
«Мертвые равны», — вспомнилось мне. Неправда! Фон Шехта тоже нет, но он умер иначе. Трупный яд останется после таких. А другие сгорают чистым огнем, освещая дорогу живым.
Тут я с болью, с ужасом поймал себя на том, что думаю так не только о Фойгте, но и о Кате, До сих пор я берег ее в своих мыслях живую, только живую. Янтарная комната, картины, экспонаты из музеев все это было для меня как бы вне войны. Смерть Кая словно толкнула меня обратно на передний край.
Точно в тумане замелькали передо мной санитары, натянувшийся холст носилок и наш эскулап, склонившийся над телом. «Ранение смертельное», — услышал я. Кая вынесли. Я спустился во двор.