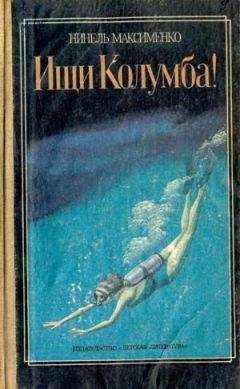Сегодня Новый год. Первый раз к нам придет Матвей.
С раннего утра я все чистила, мыла и скребла и наводила уют, а мама надо мной посмеивалась:
– Что это ты стала такой чистоплотной? Наверно, Матвей не очень-то любит нерях.
– Да, мама, как он все замечает, ты себе представить не можешь! Ты знаешь, у него чувство красоты развито до невозможной степени. И все неэстетичное его раздражает.
Мама засмеялась. Я с недоумением подняла голову от пола:
– Ты чего?
– Ну, тогда он должен быть очень раздражительным, ведь в жизни очень много неэстетичного.
– Ничуточки не раздражительный, как раз наоборот. Вот ты его узнаешь, тогда поймешь. Он настоящий философ. Он может себя настроить так, чтобы не замечать обыденности.
Мама опять засмеялась.
– Смотри, Татка, и ты скоро станешь философом, как заговорила! – И, хитро на меня посмотрев, спросила: – Ты все-таки побаиваешься, что он заметит нашу пыльную обыденность? Ну, давай лучше решим, чем мы будем его угощать. Может быть, пельмени с тобой слепим? В нашем городе их не очень-то делают.
– Не-е, мамочка. Это что-то уж очень сытное, грубое. Знаешь, надо, чтобы на столе было все очень красиво разложено по цвету, чтоб стояли цветы и обязательно включить проигрыватель… Моцарта.
– Ты что же, думаешь, что мужчины-философы питаются только цветами и Моцартом? Вот выйдешь замуж… – Мама осеклась. Я поняла, что она опять подумала о том, что Матвей женат.
– Мама, ну мама, ну перестань, пожалуйста!
– Что перестань?
– Перестань об этом думать. Я же тебе все говорила. Он женат только формально. Просто ему сейчас по каким-то причинам неудобно жене говорить о разводе. И потом, я же не собираюсь замуж. Ну, мамочка, ты же никогда не была у меня как все взрослые. Ты же современная. Ну неужели человек должен подавлять свои чувства из-за какой-то случайной бумажки? Сначала разведись, а потом влюбляйся.
Я посмотрела на маму. Она стала вдруг грустная-грустная и задумчивая. Может быть, она подумала о себе и об отце.
– Ну, мама, мы же хотели с тобой быть сегодня веселыми.
– Быть веселыми… Женат только формально…
Мама повторяла мои слова, но я видела, что она что-то очень хочет мне сказать, но не решается, может быть, стесняется, думает, что я еще маленькая.
– Таточка, а тебе не приходило в голову, что жена, может быть, не считает, что это только формально. Тата… Я не хочу тебя обижать, но надо подумать об этом… Может быть, ты крадешь чужое счастье…
Нет, я не думала об этом. Никогда мне это в голову не приходило. Когда Матвей мне говорил, я почему-то думала, что и жена его считает свой брак с Матвеем формальным. Но действительно, это может быть и не так. Мой папа тоже, наверное, сказал той женщине, что у него брак чисто формальный, а вот мама до сих пор его любит.
Да, я об этом не думала. А если бы и думала, изменилось бы что-нибудь? Могла бы я не полюбить Матвея, не знаю…
Наконец это долгое утро кончилось. Наступил день. С минуты на минуту должен прийти Матвей. И только теперь, когда в комнате все было убрано и стол красиво накрыт (мама все-таки настояла на своем, и мы сделали пельмени), когда остались считанные минуты до его прихода, меня стал мучить страх, и я даже пожалела, что пригласила Матвея к нам домой. Это из-за мамы. Он ведь не знал, что мама передвигается только в кресле на больших колесах, а сама ходить не может. Матвей знал только, что у нее что-то с ногами, поэтому она ушла с работы. А вдруг он что-нибудь скажет? Нет, он ничего не скажет. Но, может быть, как-нибудь посмотрит. Если только он посмеет посмотреть на маму с жалостью, я его возненавижу. Лучше бы я его не звала…
В дверь постучали, и вошел Матвей, такой нарядный, в костюме и в белой рубашке. В руках у него были две белые розы и коробка конфет. Я потянулась схватить розы, но Матвей отвел мои руки слегка, посмотрел на меня как-то даже насмешливо, подошел к маме и подарил ей розы, и поздравил с Новым годом. А конфеты положил на край стола. Он заговорил с мамой так, как будто знал ее тысячу лет и сто лет не видал и как будто меня даже и нет в комнате. Я стояла растерянно, не зная, что делать. Матвей даже не смотрел на меня. Спасла меня мама. Она перебила Матвея, слегка дотронувшись рукой до его руки, и сказала:
– Тата, кончай хозяйственные дела и давай к столу! Фартук не забудь снять.
Я бросилась на кухню и стащила с себя фартук, взяла хлебницу с тонко нарезанным хлебом и подошла к столу. Все было очень красиво: соленые помидоры, красные и желтые; в миске пельмени, густо посыпанные перцем, от миски поднимается душистый пар; на блюде совсем крошечные маринованные корнишоны и еще фаршированные баклажаны.
Я увидела, что Матвей смотрит на меня, и мне стало стыдно, что я так хвастливо рассматривала стол; я, кажется, покраснела, но Матвей улыбался сейчас совсем по-другому, чем тогда у двери. Улыбка у него была ободряющей. Он тоже только на секундочку посмотрел на стол и так же на секундочку прикрыл глаза, как будто бы кивнул мне. Он совсем сейчас не смеялся надо мной, а как будто благодарил, как будто понял, что это я для него…
Я была рада, что он не стал подкатывать к столу мамино кресло, как это почти всегда делали другие. Мама и сама прекрасно управлялась со своим креслом. Матвей не был чересчур приторно-вежливым, чего я тоже боялась.
И вообще все было чудесно. Мы говорили о музыке, и оказалось, что Матвей, так же как и мы с мамой, тоже очень любит Баха. К тому же он прекрасно разбирается в проигрывателях и в стереозвучании и посоветовал нам с мамой купить «Эстонию», которая звучит не хуже импортного стерео и прекрасно выявляет верхние ноты, так что даже скрипка звучит почти как в натуре.
Потом разговор коснулся Шостаковича, и я спросила, слышал ли он Четырнадцатую симфонию, и оказалось, что нет.
Он сказал:
– Давайте послушаем, если вы не возражаете.
Мама посмотрела на меня и спросила:
– А как же Моцарт?
Но я махнула рукой и побежала к шкафу доставать пластинку. Мы слушали Четырнадцатую. Это такая музыка, которая сразу отрезает тебя от всего, что ты чувствовал, думал. Как будто кто-то берет тебя, как щенка, за загривок и бросает с знакомой земли в черноту неба. Я не могу сказать, что мне все понятно в этой симфонии. Но чувство, что я оторвана от земли и меня носит где-то там в черноте, я испытывала каждый раз, когда слушала Четырнадцатую. И это было жутковато.
– Это великая музыка, – сказал Матвей, когда я сняла пластинку. – Да, это великая музыка. Шостакович сдвинул пределы жизни и смерти. Он услышал жизнь в смерти. Я чувствую, что меня уже нет, я превращаюсь в холодного болванчика, меня едят черви, но и они умирают, и через мои кости прорастают корни деревьев. Но и их срок кончится, и они засохнут. Мои останки вместе с останками корней размоют дожди, разнесет ветер, и от меня останутся лишь пылинки. Но пылинки эти не погибают, они носятся в космосе, они стремительно бегут в общем движении, и, может быть, одна пылинка, оставшаяся от меня, станет началом новой планеты…