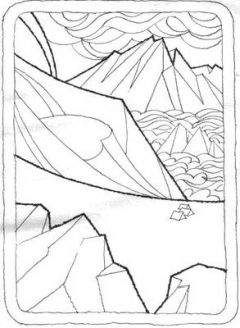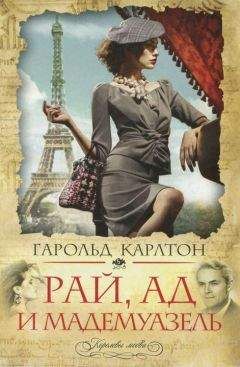Всю вторую половину дня Тарасов продежурил у палатки, вглядываясь в плотные белесые космы снега, которые ветер нес и нес на палатку, трепал брезентовое жилье, как хотел, — тщетно надеялся Тарасов увидеть в мгле хоть что-нибудь, но, увы, — ничего он так и не увидел: стая галок, видимо, была приблудной, в устье ледника она так и не вернулась. Тарасов сидел, мерзнул около палатки до тех пор, пока из-под полога не вылез Присыпко.
— Слушай, бугор... Хватит тебе снежного человека сторожить. Закоченеешь.
— Если бы снежного.
— А галки, дичь эта, сейчас все равно не прилетят. Они, похоже, только утром появляются. Стая и сегодня утром появилась, точно? Когда ветер чуть стихает, вот тогда и надо их ожидать. Ветер кончится — обязательно прилетят.
Тарасов подумал про затяжную непогоду, буркнул:
— Ветер кончится — не только галки, а и вертолет прилетит.
— Ладно. Залезай в палатку, зашнуровываться будем. Холодно очень. И спать пора.
— Мужики там как, не ссорятся?
— Молчат.
Ночью Тарасов вскочил, словно ударенный кулаком в бок. Над самым ухом у него раздался отчаянный крик, мгновенно вбивший перед глазами оранжевые сполохи. Он рывком расстегнул молнию спального мешка, выскользнул из его нагретой полости. Услышал задавленное, хриплое:
— Ах ты, с-сука! Во-от с-сука!
Нашарил фонарик, лежащий в изголовье, надавил на шпенек выключателя, осветил палатку. Увидел, как взъерошенный, ослабший, злой Студенцов держит за горло Манекина, буквально вытягивая его из спальника, вот-вот, глядишь, задушит славного горовосходителя, а тот, помидорно-красный, в мокрых подтеках, оставленных слезами, льющимися из глаз, беспорядочно размахивает руками, пытаясь вцепиться в Студенцова, схватить его либо за волосы, либо за уши, но каждый раз промахивается.
— Он меня з-з-задушит! — просипел Манекин.
— Я тебя убью, как падаль. Понял? Убью! Ах ты, с-сука! — хрипел Студенцов, стараясь выволочь Манекина из спального мешка.
Увидев в свете фонаря ружье, Студенцов вдруг отпустил Манекина и, несмотря на немощь, проворно метнулся к двухстволке.
— Мы суп в последующий раз, с-сука, не из галки будем есть, а из тебя, из твоего мяса. Понял?
— Он сумасшедший! — резко выкрикнул Манекин, шарахнулся вместе с мешком в другую сторону палатки, закрываясь от Стуценцова руками. — Он убьет меня! Помогите!
— Стой! — Тарасов кинулся к Студенцову, пытаясь удержать его, но не тут-то было, тот словно не слышал вскрика.
— Наза-ад! А ну все от меня! Наза-ад! — схватившись обеими руками за ружье, Студенцов вздернул его над собою, зацепил концом за шов палатки, завалился на спину, переводя ствол к Манекину. — Я сейчас убью этого гада, убью! И отвечать не буду!
По чужим, испещренным кровянистыми волоконцами — это от холода и высоты полопались сосуды — глазам, по раскрылатенным ноздрям и яростно распахнутому рту Тарасов понял, что Студенцов сейчас выстрелит — точно выстрелит! — палец его лежал на спусковом крючке, проржавевшем от сырости, осталось только сделать легкое движение, надавить на собачку, и — и-и... Пока Тарасов раздумывал, что же делать, настороженно и вместе с тем одурело следя за Студенцовым, а точнее, за его руками, за пальцем, просунутым в защитную скобу, тот все же нажал на спусковой крючок — нажал, вот ведь ка-ак!
Но выстрела не последовало — во-первых, патрон находился в левом стволе, Тарасов сам загнал его туда — из левого ствола ему сподручнее было стрелять, а Студенцов взвел правый курок и надавил именно на него, во-вторых, ружье стояло на предохранителе. Тарасов всегда ставил свою пищаль на предохранитель, чтобы не было случайного выстрела.
— Сто-ой! — снова заорал Тарасов, кинулся на Студенцова. Схватился руками за ружье, резко крутанул его в одну сторону, в другую, вырывая, потом подкатился под Студенцова и резко ударил его локтем в живот. Удар неопасный, но болезненный — Студенцов выпустил ружье и, не охнув, не икнув, притиснул руки к животу, скорчился. В глазах его, побелевших от бешенства, ничего, кроме злости, до этой минуты не выражавших, заплескалась боль.
— Ты что-о? Что-о? — яростным шепотом (почему шепотом? кого он боится, кого?) накинулся Тарасов на Студенцова. — В тюрьму захотел? Раз набиваешься — будет тебе тюрьма! Будет! Как только на Большую землю вернемся — будет!
Он распахнул ружье, подцепил пальцем патрон, выуживая его из ствола. Патрон, не выбитый инжектором, хоть и плотно сидел, а все же подался, шлепнулся, в ладонь, обнажив черную глубину дула. Тарасов сунул патрон в карман штормовки, застегнул клапан на пуговицу.
— Все, теперь стреляй! — по-прежнему шепотом, словно действительно боялся кого-то, прохрипел Тарасов, сделал мах рукой: — Стреляй!
Швырнул ружье в угол палатки.
Студенцов разогнулся, с шумом выпустил воздух сквозь зубы.
— Да его, с-суку, не то чтобы стрелять, его повесить либо в реке утопить надо. И сказать, что отстал в походе, потерялся... Стрелять — это слишком благородно для такого подлеца.
— Что ты мелешь, Володька, очнись!
— Ничего я н-не мелю! — Студенцов неожиданно заплакал, провел себя рукою по груди, губы у него задрожали мелко, скорбно, но в следующую минуту он справился со слабостью. — Кого мы в группу взяли, кого? — закинул голову назад, показывая морщистую нежнокожую шею. — Дерьмо мы взяли, вот. Ты думаешь, почему он от супа из поганой птицы отказывался, а? Неужто считаешь, что голод брезгливости место уступил, а? Будто старичок старушке скамейку в переполненном трамвае? Неужель ты действительно считаешь, что он больной? Не-ет, товарищ бугор, не так все это, не та-ак — он здоровее всех нас, вместе взятых, и никакой тутук его за горло не брал. Не брал, понятно? Ты посмотри, что он по ночам тайком от нас жрет? Думаешь, дохлятину, поганое мясо? — Студенцов скривился лицом, рот у него скособочился, будто у старухи шаманки, из осветленных злых глаз посыпался огонь. — Он колбасу по ночам жрет! Смотри! — Студенцов вытянул перед собой трясущуюся руку. — С-смотри!
Тарасов только сейчас заметил, что рядом с манекинским спальником стоит распахнутый рюкзак, а в зеве, на промасленной, до дыр вытертой по сгибам бумаге лежит длинный, лаково поблескивающий в свете фонаря батон колбасы. Ну и дела-а, — покачал головою Тарасов. Вот почему ему чудился по ночам дразнящий колбасный дух и он сходил с ума от острого духа копчености, от запаха хорошего мяса, думал, что это галлюцинации, призрачные видения, а оказывается, все это имело под собою совершенно реальную основу. Колбаса была первоклассной, финской, твердо-холодного копчения, облаченной в плотную копченую обертку, коричневую, блесткую от проступающего сквозь поры жира, с охристой надписью, выбитой на темном фоне «Любская салями» и алюминиевой штрипочкой, зажимающей хвост батона. И дух от колбасы шел такой, что даже горло перехватывало, а в свете фонаря возникали мокрые радужные пятна, которые то увеличивались в объеме, то, наоборот, уменьшались, пропадали. Тарасов не сразу понял, что это его собственные слезы, вызванные острым шпарящим духом еды. Студенцов вздохнул тяжко, сыро. По всему было видно, что он успокаивается.