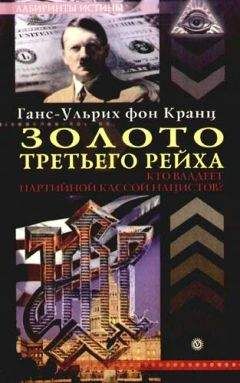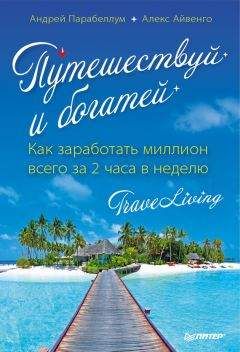прививаемое с первых лет жизни каждому советскому человеку.
Но книги – книги были его территорией, куда не было входа никому. Конечно, это
необычное для подростка увлечение отличалось известной сумбурностью, которая на
самом деле и придавала нужные для духовного созревания оттенки – язвительный Чехов
чередовался с наивным Майн Ридом, а недочитанный Фадеев мог быть легко заменён на
загадочного Гоголя или фееричного Свифта. Но всё это было не то – он постоянно
чувствовал, что чего-то не хватает во всей этой разношёрстной прозе, должно быть нечто
более грандиозное, более искреннее и возвышенное.
И вот, наконец, свершилось – с первых страниц романа Гюго он понял, что впереди его
ждёт настоящее открытие, настоящее переживание, которое несравнимо ни с робкими
поцелуями тоненькой девочки в пионерлагере, ни с пряным ароматом сигарет «Кэмэл»,
наполнивших киоски «Союзпечати», ни даже с редким вниманием признанной классной
красавицы Оксаны, которая сидела с ним за одной партой. И его надежды были
оправданы – на последних страницах романа он тихо и с удовольствием плакал, не
ощущая своих слёз. А после второго прочтения пришло устойчивое ощущение всеобщей
красоты и величия человеческого одиночества, которое не покидало его всю оставшуюся
жизнь.
С тех пор он прочёл этот роман раз двадцать, и каждый повтор открывал всё новые грани
трагикомедии под названием «жизнь». Даже когда он, единственный выживший после
падения горящего вертолёта в Афганистане получал свой орден «Красной звезды»,
возникшее на мгновенье чувство горечи о погибших товарищах, не шло ни в какое
сравнение с всепоглощающими переживаниями за судьбу прекрасной Эсмеральды и её
вновь обретённой матери. Поэтому Париж, Гревская площадь и, конечно же, сам Собор
Парижской Богоматери, стал его мечтой, которая сегодня, благодаря турагентству
«Вояж», превратилась в действительность.
…Услышав, что группа отправляется на пешую экскурсию по городу, он подошёл к
руководителю и сказал, что вернётся в гостиницу самостоятельно. Не слушая аргументы
экскурсовода, робко пытавшегося вернуть заблудшую овцу в стадо, он сухо попрощался,
отошел в сторону и, закурив, снова впился взглядом своего единственно здорового глаза в
восстановленный после бесчинств парижских коммунаров Отель де Виль, в котором
нынче расположилась мэрия Парижа.
Современная Гревская площадь никак не соответствовала его представлениям о месте
многочисленных аутодафе – она была ничтожно мала по сравнению со щедрым размахом
российских площадей, заставлена разномастными работами современных флористов и
архитекторов, и только само мрачноватое здание мэрии немного компенсировало его
лёгкое разочарование. Отдав должное великому месту, названному самим Гюго символом
жестокого и кровавого правосудия, он направился к главному объекту своей жизни,
который светлел неподалеку на фоне свинцового парижского неба.
Возле знаменитого храма было полно туристов, но он совершенно не замечал
посторонних. Внимательно осмотрев фасад с потрёпанными временем горгульями, он,
внутренне трепеща, направился в тёмный провал внутренностей Собора, скрывающихся
за массивными деревянными дверями. Внутри было на удивление тихо, и очень мало
народу. Он с удовольствием сел на массивную деревянную скамью, и стал разминать
больную ногу, мысленно пробуя на вкус любимые с юности строки:
«…Великие здания, как и высокие горы – творения веков. Часто форма искусства успела
уже измениться, а они все еще не закончены, тогда они спокойно принимают то
направление, которое избрало искусство. Новое искусство берется за памятник в том виде,
в каком его находит, отражается в нем, уподобляет его себе, продолжает согласно своей
фантазии и, если может, заканчивает его. Это совершается спокойно, без усилий, без
противодействия, следуя естественному, бесстрастному закону. Это черенок, который
привился, это сок, который бродит, это растение, которое принялось….»
«Великие здания, как и высокие горы – творения веков», - невольно повторил он уже
вслух, сильно напугав сидящего неподалёку азиата, такого потешно маленького в
сравнении со своим огромным фотоаппаратом.
Затем он закрыл глаза. Перед внутренним взором пронеслась вся жизнь, начиная от
первого воспоминания, в котором маленький мальчик, плача, тыкался в прокуренную
щетину отца, пытаясь посильнее укусить этого страшно большого лохматого человека.
Быстро промелькнули школьные годы, оправленные в однообразную рутину пионерско-
комсомольского образования, слегка кольнуло в сердце при мысли о своей первой любви,
которую звали…боже, как же её звали-то…, сильнее заныла нога при воспоминании о
выполненном до конца интернациональном долге и, наконец, он снова открыл глаза и
умиротворённо улыбнулся Собору изуродованным лицом. Ему хотелось плакать и
смеяться, любить и ненавидеть, кричать и петь, воевать, страдать, умирать и снова
рождаться…. И тогда он снова от корки до корки благословил всю свою жизнь,
подарившую такие прекрасные мгновения восторгов любви, одиноких раздумий и
возвышенной печали. Ему вдруг стало необычайно легко и хорошо. Он был дома.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
БИНГО!
-1-
Межгалактический шулер Уллис, нервно поёжился от сладостного предвкушения встречи
с планетой, о которой во всех уголках Содружества Галактик ходило столько легенд,
слухов и домыслов, что порой казалось, что этот маленький мирок на задворках
Вселенной является чьим-то вымыслом, воспалённой фантазией или просто
галлюцинацией, которой подвержены все, кто дружит с открытым космосом. Родившийся
около пяти тысяч лет назад Уллис был типичным представителем клана Игроков, которые
конфликтовали с Демиургами и на сотнях планет, входящих в Содружество, и в
пустынной бесконечности парсеков, пронизанных темной материей. Вот уже много
миллионов лет, начиная с того момента, когда стремительный проигрыш двух
туманностей и десятка молодых квазаров, приведший к разрушительной войне между
Демиургами и Игроками, в Межгалактической Цивилизации азарт был под строгим
запретом.
Действительно, ещё одного взрыва точки сингулярности, который мог легко стать