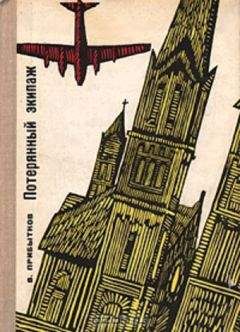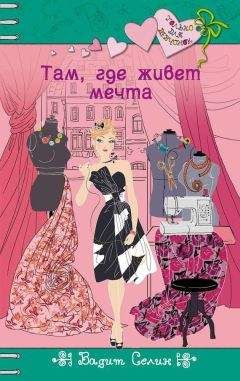— Товарищ капитан, вы, может, поесть хотите? — спросила Кротова.
Бунцев очнулся:
— А? Нет, есть я не хочу… Потом…
— Давайте я нарежу хлеба.
— Нет. Потом… Отвлеклись мы с тобой. Гадаем, как на кофейной гуще.
Усмешка Бунцева была горькой.
— Ты лучше досказывай давай про своего полковника. Как он с пассажирским поездом опростоволосился.
Кротова отложила мешок со скудными запасами продовольствия, запахнула воротник куртки, поежилась.
— Да он не опростоволосился, товарищ капитан.
— Как так?
— Да так. На следующий же день перебежчики с фашистской стороны появились. А среди них — алькальд одной деревушки, что поблизости от места крушения расположена. Вот этот самый алькальд, староста по-нашему, первый и рассказал, что фашисты взбешены, всех направо и налево хватают, потому что в этом пассажирском поезде, под откос пущенном, штаб итальянского воздушного соединения в Кордову перебирался, а при штабе — виднейшие итальянские авиационные специалисты. И все они к праотцам отправились. Все до единого.
— Вот это сила! — пораженный неожиданной развязкой, воскликнул Бунцев. — Ну, как в романе! Так-таки ни один сукин сын не уцелел?
— Ни один, — сказала Кротова. — Фашистские газеты три дня потом с траурной каймой выходили, некрологи погибших печатали. А франкистский генерал Кейпо де Льяно, пьяница известный, по севильской радиостанции слезу пускал и клялся партизан изловить и страшным пыткам подвергнуть… — Она опять улыбнулась. — До сих пор ловит.
— Сила! — повторил Бунцев, искренне восхищенный рассказом. — Одним махом — целый штаб! Это да! Это не хуже авиации!
— А может, даже лучше, а? Товарищ капитан? — невинным голосом спросила радистка. — Я не слышала, чтобы одной бомбой целый штаб уничтожали.
Бунцев тихо засмеялся, потряс головой:
— Подловила! Один — ноль в твою пользу.
Но тут же оборвал смех и сказал со страстной тоской и горечью:
— Эх, Оля, эх, товарищ сержант! Все равно бы я ни на что свой бомбардировщик не променял. Ни на какие мины! Надо же было нам гробануться, да еще когда — перед самым концом! Сиди вот теперь и истории про чужие подвиги слушай, вместо того чтобы воевать!
— А зачем истории слушать? — возразила Кротова. — Мы и воевать можем, товарищ капитан. Просто рано нам было…
— С чем воевать? — спросил Бунцев. — С этой пукалкой? — Он хлопнул ладонью по бедру, на котором висела кобура пистолета. — С ней много не навоюешь! Ты правильно говорила: шести пуль фрицам мало!
Кротова внимательно рассматривала свои унты.
— Товарищ капитан, — сказала она. — У меня план есть… Может, одобрите?
— А ну, — сказал Бунцев, — выкладывай, какая идея тебя осенила.
— Да идея не новая, — сказала Кротова. — И в общем-то выполнимая. Если захотеть.
— Говори!
Кротова оторвалась от унтов.
— Идея, товарищ капитан, такая… Прежде всего оружием разжиться, ну, а потом…
Ветер не стихал. Сосны все раскачивались, и раскидистые ветви их все метались в облачном небе, и только скрип стволов да свист ветра нарушали тишину леса.
3
…Нина лежала, слушая затихающий шорох кукурузных стеблей за спиной, злобный лай собак, перекличку немцев, тяжелое дыхание оставшейся рядом Шуры, и кровь гулко била в виски, а руки не слушались.
В школе она сдавала зачет на значок «Ворошиловский стрелок», там ее научили целиться, но стрелять приходилось из малокалиберной винтовки, а не из автомата. Тем более немецкого.
Нина видела, как стреляют немцы, понимала, как надо обращаться с оружием, и все-таки ей было страшно, что автомат не заработает…
Все шло так хорошо! Крестьянин, назвавшийся Иоци, привел их на свой двор. Его жена принесла чугунок кукурузной каши и сало. Беглянок устроили в сарае на соломе, принесли им старые половики, а для Шуры — старый тулупчик. Мех был потерт, но грел.
Выпив вина, Шура забылась. Уснула и Нина. И всю ночь они спали спокойно, а утром им опять дали каши и сала.
Хозяева просили об одном: не выходить из сарая до ночи. Нина обещала, что никто не выйдет. Но в полдень уснула, а одной из женщин захотелось пить, она прокралась к колодцу, стала спускать бадью, и с этого началось. Не успела несчастная вытянуть бадью, как на улице затарахтел мотоцикл. Женщина опрометью бросилась в сарай. Но проезжавшие мимо немецкие солдаты заметили торопливо скрывшегося человека, заметили брошенную бадью, остановили мотоцикл, зашли во двор, подозрительно поглядели на сарай, о чем-то посоветовались, развернули свою машину и стремительно укатили…
— Надо скрываться! — сказала Нина, как только ее растолкали и рассказали о беде. — Скрываться! Что вы наделали?! Людей подвели!
Крестьянин уже стоял в дверях сарая.
— Немцы оглядывались… — растерянно сказал он. — В поместье поехали. Там соберут своих…
— Уходите и вы! — сказала Нина. — Уходите.
Иоци покачал головой.
— Из своего дома?.. Куда?.. Как-нибудь отговорюсь… А вы бегите. Спрячьте оружие. Утопите его. Бегите!
— Нет, оружие я не отдам! — сказала Нина.
Они ушли со двора Иоци среди бела дня. Выбрались на зады, опять побежали полем, опять скрылись в кукурузе. Но уже через полчаса услышали треск мотоциклетных моторов и собачий лай.
— Разбегайтесь! — приказала Нина беглянкам. — Разбегайтесь! Я задержу немцев.
— Тебя убьют! — твердила Шура. — Убьют!
— Уходи! Я одна!
Она легла и приладила автомат. Оглянулась. Шура стояла рядом с ней на коленях, в глазах подруги дрожали слезы.
— Уходи!
— Нет. С тобой.
— Тогда ляг! Ляг!
Шура легла, прижалась к Нининому боку.
— Если тебя ранят, я смогу… — сказала Шура.
— Лежи.
Кровь гулко била в виски. Было страшно. Страшно, что автомат не заработает. И когда Нина увидела в просвете стеблей рвущуюся вперед черную овчарку, а за овчаркой — немца, еще молодого, розового, но вдруг посеревшего и попытавшегося кинуться в сторону, — и когда автомат все-таки заработал, и овчарка, подпрыгнув, завизжала, а немец перегнулся пополам и ткнулся в землю, Нину охватила радостная ярость. Ей стало легко, легко.
Встав на колени, забыв об осторожности, она поливала свинцом кукурузу, где прятались окружавшие враги, и кричала им, обзывая их ублюдками, и звала их идти, чтоб им сдохнуть, идти, если им их поганая жизнь надоела, идти, если хотят получить пулю…
Автомат захлебнулся.
Нина трясла его, нажимала на спусковой крючок, но магазин иссяк, автомат молчал.
И тогда послышались шаги…