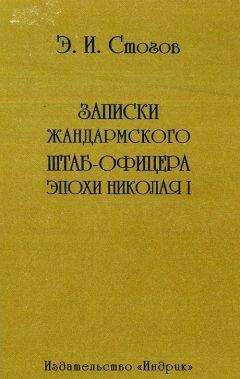Я все глядел на танки и ничего не ответил ему.
— Ладно, — говорил он, стоя рядом со мной и, как мне показалось, совершенно не нуждаясь в моем ответе. — Мы защищаем свою землю, Советскую власть, мы знаем, почему идем на смерть. Наше дело правое. Не мы начали войну, черт бы ее драл совсем! Но немцы… Они-то ради чего? Какая у них правда? Не все же они фашисты! Вот майор с агитмашины приводил вчера с собой немца: какой он к чертовой матери фашист! Они-то чего думают, такие, как он? Ох, ненавижу я их за эту телячью покорность! Люди ведь гибнут — вот что важно! Люди! Жалко мне людей, невмоготу, понимаешь, как жалко! — он с отчаянием махнул рукой и пошел к себе на НП.
А час спустя возобновилось наше наступление, и лугом, мимо нас, пошли танки с десантом. Вступила в бой свежая дивизия, и немцы стали отходить по всему фронту.
Когда я пришел в овраг, он был забит повозками, автомашинами, снующими взад и вперед или сидящими с котелками в руках солдатами. Пробегали с озабоченными лицами штабные офицеры.
Я остановился возле блиндажа, в котором жил до вчерашнего дня и где теперь поселился генерал Кучерявенко. Какое-то тоскливое, щемящее душу чувство охватило меня. Вышел адъютант, поздоровался со мною и опять скрылся за дверью. Я пошел дальше, адъютант снова появился на улице и окликнул меня:
— Капитан, к командиру дивизии.
Кучерявенко сидел за столом, завтракал.
— Садись, — сказал он и внимательно оглядел меня красными от бессонницы глазами… — Что не весел?
— Друзей потерял.
— Плохо? — спросил генерал.
— Плохо.
Над нами летел самолет.
— Рама, — сказал адъютант, выглянув в дверь.
Я вышел на улицу. Высоко в небе медленно плыл большой итальянский самолет. В овраге все замерло. Люди, задрав головы, следили за самолетом. Кое-где начали стрелять в небо из винтовок. Самолет проплыл над оврагом, развернулся и, снизившись, пошел на второй заход. Все стояли и смотрели, как он летит над нами, и когда из него выбросили ящик, а из ящика посыпались гранаты, никто сперва ничего не понял, и лишь когда гранаты стали рваться в овраге, люди кинулись врассыпную и уже стали требовать носилки и стонали раненые. Самолет медленно улетел. Где-то кричали:
— Скорее врача! Убило начальника агитмашины!
«Зачем врача, если убило!» — подумал я и пошел вдоль оврага и скоро увидел агитмашину. Возле нее сидел на земле Август в своем новеньком обмундировании и порыжелых, ушитых проводом, сапогах, а рядом лежал майор Гутман в неестественной позе, неловко подогнув под себя руку. Из глаз Августа катились слезы, он по-детски всхлипывал и гладил ладонью черные вьющиеся волосы майора.
— О, майн готт! Майн готт! — шептал Август. Он казался очень одиноким сейчас. Я огляделся. Солдаты, столпившись вокруг, молча, с жалостью смотрели, как он плачет. Только один человек, стоявший напротив меня, толстый, краснолицый, уже в годах, майор, смотрел на Августа зло, презрительно, с гримасой отвращения. Встретившись со мной глазами, он вдруг смутился, едва заметная виноватая улыбка пробежала по его лицу.
Август все плакал. Сердце у меня дрогнуло, я почувствовал, что, глядя на него, сам сейчас расплачусь от жалости к нему, майору Гутману, Мамырканову, Шубному, и пошел прочь.
Толстяк-майор тоже выбрался из толпы. Сняв фуражку, вытирая носовым платком наголо бритую голову, сказал, обращаясь ко мне:
— В любых обстоятельствах смерть кажется нелепой и жестокой. Не находите?
Я ответил, что думаю точно так же, что мне жаль и начальника агитмашины, с которым я был знаком, и немца.
— Немца жалеть нечего, — ответил он.
— Почему?
— Потому что враг. Врагов не жалеют. Не за что. — Он представился: — Начальник армейского банно-прачечного отряда, майор Толоконников. Приехал на рекогносцировку и чуть на тот свет не угодил.
— Не рано ли вы приехали сюда? — спросил я, пожимая ему руку.
— Рано не рано, а приказ есть приказ.
Иван уже разыскивал меня. Поступило распоряжение из штаба батальона двигаться мне дальше. Еще один укрепленный узел был занят нашими войсками, и я простился с майором Толоконниковым.
В первую минуту я ничего не почувствовал, не увидел и не услышал, а только упал на бегу, словно споткнулся, и лишь когда попытался вскочить, то снова ткнулся лицом в землю, ощутив, будто к моему животу приложили кусок раскаленного железа, и потерял сознание. Я не слышал грохота разорвавшегося снаряда и, конечно, не мог видеть, как он разрывается. И никакой боли, только стало горячо животу. У меня до сих пор такое ощущение, что сперва меня ранило, а потом уж разорвался снаряд. А быть может, это произошло одновременно.
Первый раз я очнулся в повозке. Было по-осеннему пасмурно, накрапывал дождь, меня укрыли с головой плащ-палаткой, я слышал, как возле повозки суетились, тревожно переговариваясь вполголоса, люди, и с едва сдерживаемой нетерпеливой яростью распоряжался, тоже вполголоса, старшина Лисицин:
— Быстро! Живо! Дементьев, осторожнее, когда через канаву будешь переезжать. Давай быстрее, черт неповоротливый!
Потом повозка, слегка скрипнув, качнулась. Это в моих ногах примостился Дементьев, чмокнул губами, испуганно, торопливо сказал:
— Но, милые, вперед! — и повозка мягко покатилась по давно не езженному, заросшему травою проселку, по которому еще полчаса назад я шел совершенно здоровый и не думал, что это может случиться со мной.
Я успел подумать, что Дементьев, наверное, сидит на самом краешке, ему неудобно, хотел сказать, чтобы он подвинулся и уселся как следует, но опять потерял сознание.
Другой раз я очнулся уже в деревенской избе. Был вечер. Мой топчан стоял напротив русской печи, в которой потрескивали и стреляли жарко горевшие дрова. Мне показалось, что меня сейчас затолкнут в огонь ногами вперед и сожгут, я с ужасом зажмурился и заплакал от обиды, бессилия и жалости к себе.
Пролечился я почти пол года и потом попал в резерв фронта. Среди нас встречались такие офицеры, которым нравилось валяться на нарах в резерве. Мы их называли «сачками». Не знаю, откуда пошло такое слово, но оно очень насмешливое и с уморительной точностью характеризует лодырей и бездельников. Мне уже через неделю надоело, в резерве, хотелось работать, было неловко, что я, здоровый парень, даром ем хлеб, и поэтому, когда предложили поехать в пограничный полк на должность начальника заставы, я, не задумываясь, согласился: какая-никакая, а работа!
Когда все документы были оформлены и пришла пора прощаться с соседями по нарам, у меня вдруг защемило на сердце: «А не свалял ли я дурака?» Натолкнул меня на эту печальную мысль один старший лейтенант, «сачок», долговязый, нескладный человек. Прощаясь со мною, он желчно, со злорадством сказал: