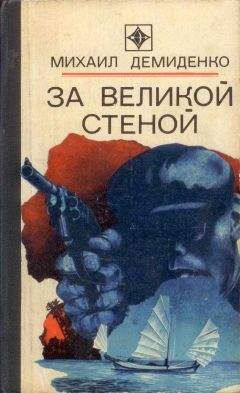Ничего вы не понимаете, люди. Ничего! Разве вы знаете, что произошло с нами? Нет, не знаете. Спросите про это у Мэй-мэй. Она вам тоже скажет, что вы не знаете. И никто не знает...
Мы знаем!
Мэй-мэй.
И я.
И она.
Мы вдвоем.
И еще почка, которая лопнула на дереве...
8
Мы встречались с Мэй-мэй почти каждый день. Даже куст, где мы познакомились, был назван «нашим кустом».
Мэй-мэй приезжала на велорикше. Оставляла его на окраине города, затем шла к аэродрому пешком.
Я украдкой перелезал через глинобитный забор, который тянулся вокруг летного поля, и, пригнувшись, короткими перебежками, бежал к нашему кусту.
Она подходила ко мне и смотрела себе под ноги, не решаясь от смущения поднять голову. Вначале я думал, она побаивается меня, но оказалось, что так она выражала свою радость. Она стыдилась своих чувств. Почему-то в Китае это считается зазорным, так же как красивая грудь у женщины или стройные ноги.
— О чем ты думала сегодня в двенадцать часов дня? — спрашивал я.
— Ровно в двенадцать?
— Да.
— О тебе.
— И я тоже...
Я не знал, что говорить дальше. Мы молчали. Она была покорна, как виноватый ребенок. А я чувствовал себя мужчиной. Наверное, мужчиной больше всего себя чувствуешь, когда рядом кто-то слабый, доверчивый. Я мог бы броситься в драку со слоном, чтоб только Мэй-мэй продолжала считать меня самым храбрым. Я брал ее за руку и вел по рисовым полям к подъему на плато. Мэй-мэй смелела, говорила робко:
— Пришло письмо, мама пишет, что младший братишка сломал руку.
— Упал с велосипеда?
— Да. Он все время нарушает правила уличного движения. Раньше в Шанхае не было правил. Каждый ездил как ему вздумается, а теперь ввели: машин стало очень много, но правила не соблюдаются.
— Прицепился к грузовику?
— Мой братишка может...
— Надо написать братишке письмо, — советовал я.
Мы как-то очень быстро добирались до крутых лёссовых склонов. Лезть наверх не было смысла, потому что там наверняка еще холодно. Мы забивались в узкую щель, заросшую диким виноградом. Здесь было тепло. Все в зелени. Мы ложились на траву и смотрели в небо.
— Прочти какое-нибудь русское стихотворение, — просила Мэй-мэй. Она очень любила стихи.
И я читал ей стихи на русском или украинском языках. По-моему, она хорошо понимала их. Иногда лишь просила перевести. Это было очень занятно — переводить стихи.
Я любил одно стихотворение. Не помнил, кто его автор, но оно мне очень нравилось.
— Что за станция? — «Зима».
А в окошке лето.
Что за станция? — «Тайга».
А тайги и нету.
Озеро вошло в окно —
Синяя полоска.
— Где мы едем? — Все равно.
Обленились в доску.
Скоро кушать будет лень.
Где везут, не знаем.
Спим да курим пятый день.
В преферанс играем.
— Что за станция? — «Зима».
А в окошке лето.
— Что за станция? — «Тайга».
А тайги и нету.
Выглядел мой перевод приблизительно так:
Это какая железнодорожная станция и как она называется?
Эта железнодорожная станция называется «Зима».
Но в настоящее время было лето, и если посмотреть в окно,
То там, за окном, не было снега, потому что было лето...
А эта железнодорожная станция как называется?
Эта железнодорожная станция называется «Большой лес».
Но большого леса поблизости совершенно не было видно,
Потому что его давно вырубили.
Если я еще сравнительно легко переводил подстрочно смысл первых четырех строк, то восьмую, «обленились в доску», переводил с большим трудом.
— Стали ленивые, как доска, — пытался я импровизировать. — Это значит... Люди сидят в поезде, никуда не ходят, сидят целыми днями и ничего не делают. Понимаешь, что получается в таких случаях? Они ленивые, как доска. Доску если не передвинешь, она сама не передвинется. И люди от лени становятся такими же, как доска. Их надо двигать.
Если мой перевод вообще и мог кому-нибудь доставить удовольствие, так это одной лишь Мэй-мэй.
Мэй-мэй улыбалась. Она как-то по-особенному улыбалась, глядя в сторону, точно отворачивалась. Брала ветку, писала на сухом податливом лёссе четыре строки стихов поэта Танской эпохи Ван Вэя. В свое время это был популярный поэт. Он занимался также живописью. Современники говорили, что Ван Вэй «в стихах видит живопись, а в живописи видит поэзию».
Я не знал значения написанных Мэй-мэй иероглифов и много от этого терял. Стих был написан на «вень-яне» (древнем литературном языке), а он не воспринимался на слух. В каждом иероглифе заключалась целая картинка, которую я не мог видеть. Но я видел Мэй-мэй, и ее глаза давали мне возможность прочитать то, чего не прочел бы в стихах ни один любитель древней поэзии. В глазах любимой я видел целый мир и самого себя.
В пустынных горах не видно людей,
Но слышны их голоса.
Отблеск солнца проникает в глубину леса.
И солнечные зайчики прыгают на зеленом мху.
Недавно в Ленинграде мне удалось найти поэтический перевод этих стихов Ван Вэя, сделанный покойным академиком М. Алексеевым:
В ОЛЕННИКЕ
Я не вижу людей
В опустевших горах —
Только эхо речей
Раздается в ушах.
Пронизал глубь леска
Свет обратный опять.
И над зеленью мха
Стал он снова сиять...
Странно. Эти стихи написаны 1200 лет назад, но они были написаны про нас с Мэй-мэй. Такая поэзия бессмертна.
В нашем ущелье тоже не было видно людей, но сюда доносились шум города, гудки паровозов. От земли исходило тепло, радостно светило солнце, а его лучи, отражаясь в ручье, прыгали зайчиком по темной стороне ущелья. Ручей, зайчики и звуки были одно целое...
А мы, мы были стихами всех поэтов всех эпох и народов.
Ведь за всю историю человечества стихи писались только про нас: про меня и мою подругу Хао Мэй-мэй.
А разве не так?
9
Тот дождь я запомнил на всю жизнь. Облака наступали на лощину, в которой лежал город, сталкивались, клубились над самыми крышами домов.
Казалось, если бы поднять землю, перевернуть и потрясти, из нее бы потекла вода. Трава и деревья набухли влагой, река наполнилась дикой яростью, взбунтовалась. Она ревела и прыгала меж низких дамб, как акула на мелководье.
В здании клуба на сцене стоял стол. Над столом висел портрет Мао Цзэ-дуна.
К столу вышел ведущий собрание, вынул из кармана свисток. Свистнул пронзительно.