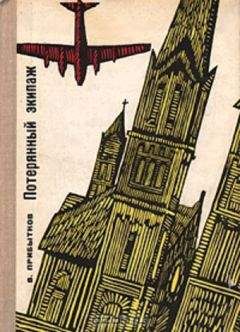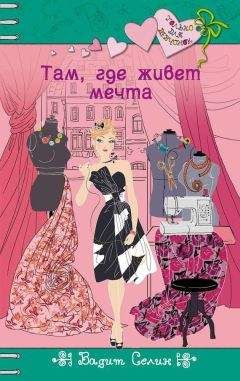Старик, похоже, повеселел.
— Де э?[10] — показал он на радистку.
— Невеста, — сказал Бунцев. — Медсестра и моя невеста. Со мной идет. Придем домой — и поженимся.
Улыбаясь, он обнял Кротову за плечи и притянул к себе. Пастух глядел недоверчиво. Поскреб нос. Отрицательно покачал головой.
— Ми дейльбол хозудод? Э нет пар некед[11].
Кротова густо покраснела, уловив смысл произнесенных стариком слов, и попыталась отстраниться от Бунцева. Старик улыбался насмешливо. Но Бунцев не отпускал радистку.
— Невеста, — твердо сказал он. — И все, отец. А насмешек я не люблю.
Сурово сведенные брови пилота заставили старика смешаться. Он опустил складчатые, коричневые, как у ящерицы, веки, легонько вздохнул, неприметно пожал плечами: ваше, мол, дело, только жаль мне тебя, парень…
Кротова высвободилась, наконец, и, алая от смущения, натягивала шлем.
— Брось, слышь? — сказал ей Бунцев. — Плюнь на этого старого хрена… Не верит, и ладно… Нам-то что?
Мальчишка, сидевший до сих пор безмолвно, отрывисто засмеялся, что-то сказал. Старик цыкнул на огольца, тот присмирел.
— Спросите, товарищ капитан, откуда они, — проговорила Кротова, не глядя на Бунцева. — Большая ли деревня? Есть ли немцы?
— Сейчас, — ответил Бунцев. — Погоди. Может, я табачком разживусь?
Табачок у пастуха нашелся, нашлась и затертая газетка. Они с Бунцевым скрутили по цигарке, закурили.
— Ух, хорошо! — сказал Бунцев, глубоко затягиваясь и выпуская струю дыма. — Ух! Свой, что ли? Сам, говорю, сажал, отец?
Как это ни странно, венгр понял вопрос и покивал со скромной гордостью мастера, польщенного вниманием знатока.
— Хорошо! — еще раз похвалил Бунцев. — Ох…
И поперхнулся: мальчишка внезапно вскочил, бросился прочь от сидящих.
Кротова закусила губу, ее узкие глаза сузились еще больше. Она побледнела. Крылья побелевшего острого носика раздулись.
Старик испуганно вскинул голову.
— Лайош! — закричал он надтреснутым голосом.
— Баранек! — не оборачиваясь, прокричал мальчишка. — Марш иннен, рондак, марш![12]
Собачонка, прикорнувшая возле пастуха, уже мчалась следом за парнишкой.
Она обогнала мальчика и первая набросилась на животных, трусивших в поле.
Овцы шарахнулись обратно.
Мальчишка, размахивая палкой, бранил их.
Бунцев передохнул, покосился на радистку. Та быстро отдернула руку от пояса.
Старик не заметил ее жеста.
— Дьере висса![13] — позвал он мальчика.
— Медьек![14]
— Ладно, ничего, — сказал Бунцев, сильно затягиваясь. — Ничего. Ладно.
«Неужели она могла бы?..» — подумал он. Ему не хотелось смотреть в сторону радистки.
— Вот чертенок! — сказала Кротова с облегчением, и капитан ощутил, что она растерянно улыбается. — Убежал бы, и все.
«Нет, не стала бы! — обрадовался Бунцев. — Не стала бы…»
Собачонка продолжала носиться, тявкая на самых строптивых овец. Те недовольно блеяли.
— Шустрая! Помощница! — сказал Бунцев, указывая на пса.
Старик понял, что незнакомец хвалит собаку, и кивнул.
— Где дорога на Будапешт? — спросила Кротова. — Дорога. Понимаешь?
Двумя пальцами она изобразила шагающие ноги.
— Будапешт! Будапешт! — настойчиво повторила она.
— Будапешт? — старик перевел взгляд с радистки на Бунцева и, когда тот наклонил голову, опять повернулся к радистке: — Это туда… — Он махнул рукой на юго-запад, за лесок.
Подошел мальчик. Видя, что взрослые мирно беседуют, он осмелел, с любопытством рассматривал чужаков. Протянул руку к кобуре Кротовой:
— Дай!
— Ишь, цыганенок! — засмеялся Бунцев.
Кротова хлопнула мальчишку по руке, погрозила пальцем, сняла шлем и подала подпаску:
— Примерь!
Мальчишка взял шлем, скинул шапчонку, открыв буйные, туго завитые и давно не чесанные кудри, натянул обнову, утонув в ней.
Смех взрослых его не смутил. Сдвинув шлем на затылок, мальчишка показал радистке острый красный язык, подпрыгнул, прищелкнул скошенными каблуками латаных ботинок и закружился, танцуя и дурачась.
— Веселый народ! — сказал Бунцев. — Гляди, как выкомаривает!
Старик погасил цигарку, кряхтя, стал подниматься.
— Отпускать их нельзя! — тотчас напомнила Кротова.
Бунцев встал, положил руку на худое плечо пастуха.
— Нет, нет! Не уходи!
Старик указал на небо, на деревню, видневшуюся на горизонте, на овец.
— Не отпускайте! — повторила радистка.
Она тоже поднялась, поймала мальчишку, потормошила, отняла шлем, нахлобучила ему старую шапку.
Мальчишка вопросительно посмотрел на пастуха.
— Медюнк, бачикам?[15] — спросил он.
— Нельзя в деревню, — сказал Бунцев старику. — Ну, никак нельзя! Не могу я тебя отпустить. Погоди!
Пастух опять нахмурился.
Опять показал на овец.
— Нет, — затряс головой Бунцев. — Вот вечер наступит — идите. А сейчас нельзя!
Он сложил ладони, подложил под щеку, закрыл глаза, изображая спящего человека, потом показав на себя и на Кротову, махнул в сторону леса, а ткнув пальцем в грудь старику, махнул в сторону деревни.
Старик недовольно покачал головой, стал объяснять что-то.
— Ну, нельзя, нельзя! — сказал Бунцев. — Пойми, нельзя!
Пастух сморщился, насупился, плюнул и снова уселся на землю.
— Чудак человек! — сказал Бунцев. — Чего сердишься? Ну, нельзя! Болтнешь чего-нибудь или малец твой проболтается — конец же нам! А с тобой ничего не случится.
— Много у тебя овец? — спросила Кротова.
Старик не ответил.
Кротова обратилась с тем же вопросом к мальчишке.
Тот лишь язык высунул.
— Обиделись, — сказал Бунцев. — Вот беда, ей-богу!
— Мне нужны овцы! — сказала старику Кротова. — Слышишь? Нужны овцы!
— На кой черт? — удивился Бунцев.
— Обождите, товарищ капитан…
Она жестами принялась допытываться у старика, чьих он пасет овец, нет ли у него своих и не может ли он продать им десяток барашков?
На пальцах она показала: десять.
Старик удивленно заморгал, тоже на пальцах спросил:
— Десять? Тебе и ему?
Радистка объяснила, что их с Бунцевым ждут товарищи, много товарищей, и мясо нужно для всех.
Видя настойчивость незнакомой женщины, пастух, видимо, струхнул. Он пас чужих овец, не имел права торговать ими, отвечал за каждую и принялся объяснять это.
— А где купить? Кто бы продал? — допытывалась Кротова.
Старик пожал плечами, показал на деревню: там, мол, спрашивать надо!