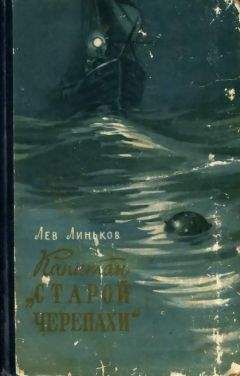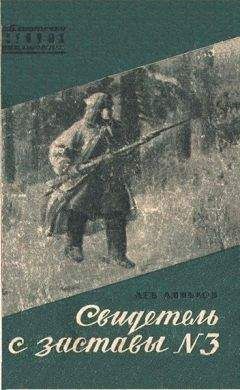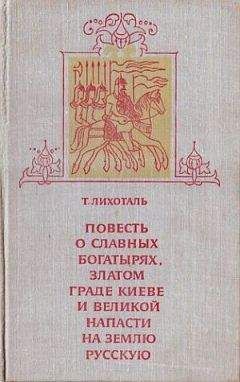Никто, кроме Кудряшева, Никитина и Репьева, не знал, что Вавилов получил тайное задание, и даже товарищи по заставе думали, что он трус и дезертир. «Вернешься, все объяснится», — утешил его Кудряшев.
Ночью Иван вылез из окна и прокрался садами к дому колониста Мерца, бывшего у Кудряшева на подозрении. «Расстреляют меня, спаси, Христа ради, спаси...» Колонист спрятал «дезертира» на чердаке, а наутро отвез на телеге под соломой к своему зятю в Гросслибенталь. Там Вавилова укрывали недели три, потом переправили к рыбакам на Тринадцатую станцию и, наконец, к контрабандистам. С тех пор Вавилов и плавал на шхуне грека на положении не то пленника, не то палубного матроса.
Антос Одноглазый еженощно рыскал у побережья, сгружал какой-то груз, потом направлялся в открытое море, в Румынию, а то и в Турцию, принимал с каких-то судов партию ящиков и тюков и опять шел к Одессе.
Во время погрузки и выгрузки Вавилова запирали в- кубрике. Только по звукам он мог определить, что происходит на палубе. Иногда люк в кубрик открывался, и по крутому трапу спускались какие-то посторонние люди.
Иван понимал, как важно, что ему удалось попасть на шхуну Антоса. Он рассчитывал помочь чекистам изловить «короля» контрабандистов и стойко переносил все унижения и невзгоды, играя роль кулацкого сынка, ненавидящего советскую власть, И вдруг такое несчастье с рукой!
«Теперь я не вояка!..» — в отчаянии думал он, раскачиваясь и прижимая к груди раненую руку.
Один из матросов протянул Ивану консервы и вдруг поспешно встал — руки по швам. Следом за ним стали «смирно» и двое других.
Поднялся и дрожащий от холода и боли Вавилов.
В кубрик спустился Антос. Подойдя к Ивану, он резким движением взял его руку и что-то сказал матросам. Один из них поспешно снял с крюка висевший под потолком фонарь и поднес его ближе, другой достал из-под банки какой-то ящичек и поставил на стол.
Антос быстро размотал окровавленный бинт, внимательно посмотрел на размозженные пальцы Вавилова и снова что-то сказал матросу. Тот вынул из ящика ланцет, вату, бинт и темный пузырек с йодом.
Шкипер обмакнул ланцет в пузырек и, прижав руку Вавилова к столу, тремя сильными, точными ударами отсек от кисти размозженные пальцы. Матрос приложил к ране смоченный йодом бинт и туго забинтовал ее.
Вавилов застонал от страшной боли, прикусил губу и сел на банку.
— Готово! — произнес Антос и улыбнулся единственным черным глазом. — Следующий раз не будешь мотать шкотом руку.
О, с каким наслаждением Вавилов схватил бы сейчас ланцет и вонзил его в глотку ненавистного шкипера!
Должно быть, Антос уловил злобу, сверкнувшую в глазах русского. Он махнул рукой, и матросы ушли.
— Вавилов! Ты предатель России! Зачем ты злой на свой спаситель?
— Куда я теперь годен? — Вавилов поднял забинтованную руку.
— Твой дело плохое! Совсем плохое! Матрос без руки — пшик! Никуда!
— Господин шкипер! Разве я затем убегал, чтобы быть матросом! Я домой хотел — на Волгу, землю пахать.
Антос усмехнулся.
— Ты поедешь на Волгу, Вавилов. Я высажу тебя на остров Тендра, оттуда вброд перейдешь на материк.
— Там пост наш пограничный, на Тендре, я служил там... Расстреляют меня.
— Сколько человек пост?
— Семеро. Маяк там налаживают.
Антос пристально посмотрел в серые, угрюмые глаза пограничника.
— О-о! Будь она проклята, — Вавилов скорчился от боли. — Будь она проклята, окаянная! Дергать начало!
— Терпение, — Антос брезгливо поморщился. — С тобой говорят о большом деле. Ты пойдешь со мной на остров Тендра!
Шкипер встал, вынул из кармана пачку сигарет, положил их перед Вавиловым и быстро вылез из кубрика.
Спустившиеся вниз матросы с удивлением увидели в левой дрожащей руке Вавилова сигарету с золотым ободком.
— Огонька вздуйте-ка! — Он протянул им коробку. — Закуривай!..
— Олл райт! — причмокнул один из матросов и весело хлопнул Вавилова по плечу. — Русский солдат молодец!..
6
Восход солнца был необыкновенным. Обессилевший от ночного неистовства ветер прогнал с западной части неба все облака и, словно истратив при этом остатки своей недавней мощи, утих. Лишь на востоке виднелась гряда не по-осеннему легких облаков. Они медленно громоздились друг на друга, поднимаясь двумя гигантскими башнями. Между ними и рождался день. Сначала края облаков-башен окрасились в бледно-розовый цвет, почти тотчас превратившийся в светло-алый, а затем в пурпурный. Краски менялись с поразительной быстротой, облака отбрасывали их на поверхность моря, которое не успокоилось еще и тяжело дышало, поднимая валы мертвой зыби.
В провалах между волнами вода была темно-синей, почти черной. На скатах волн чем выше, тем теплее становились тона: ярко-изумрудные краски переходили в светло-зеленые, а на гребнях волн казались розовыми.
Море, всего несколько минут назад холодное и сумрачное, оживало. Багряная полоса на востоке взметнулась вверх, и из воды выплыло солнце.
Облака-башни превратились в корабли, подняли якоря и поплыли под розовыми парусами к северу. Вдогонку за ними, покачиваясь на мертвой зыби, шла «Валюта», оставляя за кормой длинный серый шлейф дыма.
Любуясь морем, Ермаков не утерпел и, забыв все обиды, стал расталкивать своего помощника, который спал тут же у штурвала.
— Погляди, красота какая! Репьев вскочил.
— Что?.. — воскликнул он.
— Красота, говорю, какая! — Андрей показал рукой на солнце.
— А-а! — протянул Репьев. — Восход как восход!
— Не станешь ты моряком, вовек не станешь! — вздохнул Ермаков.
— Не стану, — равнодушно согласился Репьев. — У меня и фамилия сухопутная.
— И то верно! — Андрей с досадой отвернулся. «Ну как можно не любить такую красоту!»
Он любил море и в штиль, когда паруса висели безжизненными кусками полотна и смотрелись в гигантское зеленоватое зеркало; когда стаи дельфинов, блестя черной, будто лакированной шкурой, выгибая спины и резвясь, рассекали гладкую поверхность, догоняли шхуну, кувыркались, ныряли и вновь появлялись; когда молчаливые качурки легкими взмахами узких крыльев то поднимались высоко-высоко, почти скрываясь из глаз, то быстро падали вниз и, едва касаясь лапками воды, вылавливали маленьких красноватых рачков.
Он любил и тихие ночи, когда легкий бриз дул с берега и едва слышно щебетали ласточки.
Любил он шквалистые порывы ветра, которые внезапно заполняли паруса и не позволяли спать вахтенным у шкотов.
Но больше всего Андрей любил море во время шторма, такого, как в прошлую ночь. Тут некогда зевать! Кругом бушует взбешенная вода, ветер рвет снасти и паруса, тучи задевают за гребни волн, и волны, будто стая разъяренных зверей, набрасываются на судно, треплют его, сжимают, грозят утопить, уничтожить, а ты идешь навстречу стихии, борешься с ней и побеждаешь ее...