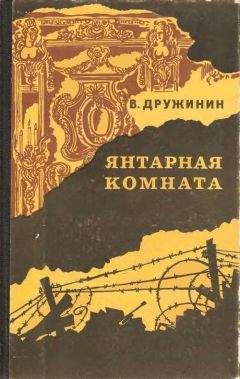— Деньги не решают, — сказал я.
— Да? — Он поглядел на меня не то с удивлением, не то с радостью. — Не решают, говорите? Вопрос! Человек, он ведь, черт его знает, какая скотина, — произнес он жестко. — Сколько ни дай, все ему мало!
— Кончай курить! — крикнул Сторицын совсем по-военному. Он стоял на горке битого кирпича, красной, умытой дождем, и оглядывал свое войско, вооруженное лопатами, кирками, — прямо командующий на наблюдательном пункте.
Лыткин с сожалением поднялся. Он явно хотел сказать мне что-то еще. Помедлил, потом разом выпрямился, поправил гимнастерку, лихо, обеими руками приладил на лысой голове фуражку.
— Кончай курить! — гаркнул он.
Разговор этот с Лыткиным вспомнился мне дня два спустя. Был в нашей группе сержант Володя Сатраки, грек, бывший сочинский парикмахер. Озорной, всегда с шутками, с анекдотами, неподражаемый имитатор. Где хохот — там Сатраки.
— Худо, хлопцы, худо! — донесся до меня однажды голос Лыткина. — Встали на путь разгильдяйства. Растопыренно работаем, нет этой… сконцентрированности. Я персонально тыкать пальцем не намерен… но…
В кругу солдат, стонавших от восторга, похаживал Сатраки. Он в точности копировал старшину.
Я двинулся туда, чтобы одернуть сержанта. Высмеивать старшего по званию в армии не положено. Но, признаться, сак не удержался, прыснул!
— Володя! — крикнул кто-то из солдат. — Ты покажи, как старшина с фрицем говорит!
Фрицем и еще, за вежливость, «гутен моргеном» звали Людвига фон Шехта. Странно, однако! При мне Лыткин ни разу, не говорил с Людвигом, если не считать неизменных, повторявшихся несчетно в течение дня «гутен морген», «гутен таг», которыми оба обменивались на ходу.
Когда Лыткину требовалась какая-нибудь справка от Людвига, старшина обычно обращался через Сторицына или через меня.
Сатраки между тем не заставил себя упрашивать. Немецкого он не знал, сыпал слова, лишь по звучанию напоминавшие немецкую речь, получалось бесподобно! Я не мог его остановить, не было сил.
Потом я отвел сержанта в сторону:
— Когда Лыткин говорил с немцем?
— Вчера. Похоже, они о чем-то условились. Старшина твердил: «Гут, гут».
Улучив момент, мы с сержантом осмотрели место встречи Лыткина и немца. Случай сохранил среди развалин клочок зелени — сгусток акаций, напоминание о погибшем здесь, под обломками, сквере.
Странно, очень странно! Что общего между ними! И тут ожили, разумеется, прежние мои подозрения. Слово за словом восстановил я в памяти недавнюю беседу мою с Лыткиным — о планах на будущее. «Человеку все мало», — повторялось в мозгу.
Вечером я явился к Бакулину.
Он и эту мою новость принял как должное. Нет, ничем его не удивишь!
— Ты что, серьезно следователем решил стать? Брось, брось! У тебя же, милый мой, все на лице написано. Выдержки никакой. Нет, нет, выкинь из головы!
Я молчал. До слез он расстроил меня. Взял, да и уничтожил одним махом Ширяева-следователя.
— А насчет Лыткина… Ну, беседовал с немцем! Это же не преступление! Что еще ты знаешь о нем? Ну, просился к Сторицыну. Тоже не грех. Русский человек любит поиск, ты заметил?
Майор раскрыл папку, полистал бумаги, потом закрыл, отодвинул.
— Три медали «За отвагу», один орден Красной Звезды. Бравый старшина! В тылах он недавно, после ранения, а так — всё на передовой. Положим, героем он не всегда был, как тебе известно.
Да, конечно, известно. Но это как-то не тревожило меня до сих пор. Все довоенное для меня как бы отрезано ножом войны. Начисто отрезано. К тому же натура моя попросту не ведала и не признавала жадности к деньгам, к приобретению добра. Ну, воровал он прежде! Но ведь воевал, через огонь прошел.
Сам я презирал и сейчас презираю всякую громоздкую собственность. Вы видите, как я живу? Жена говорит: «Ты не от мира сего, Леонид! Воют сосед дачу строит. Чем мы хуже?» Но я думаю: я как раз от нашего мира. «Наше» — всеобщее наше — оно и богаче и веселее липкого «моего». Не гнетет, не лезет тебе в душу.
— Я сам Лыткина отхлопотал, взял к нам, — сказал Бакулин. — Меня предостерегали. Запятнанный, мол. Анкета, что она, — гарантия от ошибок? Да не нужны мне такие гарантии! Проще всего, убоявшись ошибок, бумагами от жизни отгородиться. Да что толку! Изучать людей надо, Ширяев! Без предвзятости, душевно! Тем более в данной обстановке. Люди прикасаются к ценностям. А люди… они разные, Ширяев.
— Ясно! — сказал я.
Оберегать ценности, доверять и в то же время не забывать о контроле — об этом Бакулин напоминал не раз. Мне опять стало не по себе. Вот к чему свел наш разговор Бакулин. Или он не все открывает мне?
Майор еще раз посоветовал быть внимательнее к людям, узнать их получше, и отпустил меня.
Дня три я приглядывался к Лыткину, заговаривал с ним. Он отвечал односложно, отчужденно, словно боялся меня. Я мучился, строил догадки. Ведь быть в стороне я не привык, не такой характер. Наконец вечером, после работы, Лыткин подошел ко мне.
— Дело есть, лейтенант, — сказал он.
Произнес он эта слона как бы вскользь, с той грубоватой фамильярностью, которую иногда позволяет себе в отношении к офицерам бывалый старшина.
— Слушаю, — сказал я.
— Ужо, как стемнеет, — молвил он тихо, — ко мне приходите. На автобазу. Прошу вас.
Тотчас возникла в памяти хибарка за кладбищем — из кусков кровли, из старых досок; загородка для кур, белая несушка на плече у Лыткина.
— Очень нужно… Придете?
— Хорошо, — ответил я.
Хибарку я едва нашел в темноте. Штора светомаскировки плотно закрывала единственное оконце.
Ничего не изменилось внутри — те же рекламные плакаты: лампочки «Осрам», автомашины «мерседес» — и среди них пестрядь дорожных знаков, пособие для водителя в Германии. Откупоренная бутылка шнапса красовалась на столе. Старшина, видимо, уже хлебнул из нее. Он волновался. Со стуком положил вилки, взрезал банку со шпротами, неуклюже искромсав крышку.
— По маленькой, а? — Он поднял бутылку, поболтал. — Не желаете?
— После, — сказал я.
— Ладно. — Он отодвинул все локтем, сел рядом, подался ко мне.
Я ждал.
— Молодой, вы, — протянул он. — Молодо-ой. Не жили еще совсем, по сути. Вы простите.
— Пожалуйста, — сказал я.
— А я только вам хочу сказать. Вам первому. — Он утюжил кулаком клеенку на столе. — Почему? Сам не пойму. С вами вот легче как-то.
Некоторое время он молчал, словно поглощенный созерцанием узора на клеенке, потом встал, откинул занавеску, снял что-то с полки, звякнув посудой.
На столе заблестело кольцо. Гладкое, массивное кольцо, должно быть золотое. Мне хотелось слушать Лыткина, и я не мог понять, при чем тут кольцо.