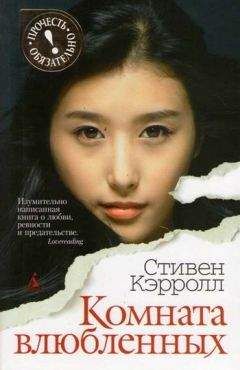Ознакомительная версия.
В глаза ударил свет хмурого утра. Взгляд выхватил за окном низкие облака, скользнул по грязным обшарпанным стенам железнодорожной будки и остановился на перевернутой табуретке, валявшейся в углу.
— Дядя Леня, вокруг никого! Я уже посмотрел, — сказал Пятеркин.
— Это хорошо. Только что ты меня все дядей зовешь? Тебе уже пятнадцать, а мне всего двадцать два года. Можешь просто Леонидом звать.
— Так вы ж сами меня так учили, — обиженно проговорил Виктор.
— Верно. Учил. Но это ж если при немцах. Для них тебе только двенадцать лет. А сейчас мы одни.
— Не… Так я запутаюсь. Лучше я вас все время дядей звать буду.
— Ладно. Валяй зови дядей.
Дубровский поднялся и, натянув сапоги, прошелся по маленькой комнатке из угла в угол.
— Ботинки твои не просохли? — спросил он строго.
— Нет, еще сыроватые.
— Чего ж ты их на ноги натянул?
— Ничего, я привычный. Не босиком же идти.
— Тогда давай почистим нашу одежду.
Леонид поднял с пола зеленую немецкую шинель и, разложив ее на плите, принялся перочинным ножиком соскребать грязь. Больше часа провозились с одеждой. Было уже около девяти, когда они покинули железнодорожную будку, приютившую их этой ночью.
Вдали, у подножия небольшого холма, раскинулся населенный пункт.
— Село Черкасское! — опознал Дубровский. — Через него дорога на Ворошиловск. Это нам по пути.
— Не Ворошиловск, а Алчевск, — хмуро поправил его Пятеркин.
— Алчевск и Ворошиловск — это одно и то же. Пора бы знать. Не маленький.
— Ворошиловск — это по-нашему, по-советски. А у немцев он Алчевском называется. Зря я это заучивал, что ли? Небось опять скажете: «Это при немцах, а сейчас мы одни». А я не хочу так, не могу. В голове тогда все перепутается…
— Ладно-ладно. Договорились, ты прав, — перебил его Леонид. — Значит, с этой минуты город Серго — это Кадиевка, а вместо Ворошиловска — Алчевск. И я для тебя дядя Леня. Только обещай мне: когда война кончится — будешь меня Леонидом звать.
— До этого еще дожить надо, — высказался Пятеркин. И сказано это было столь обдуманно и серьезно, что Леонид невольно поежился. Еще большим уважением проникся он к этому не по годам взрослому человечку.
Вскоре Черкасское осталось далеко позади. По сторонам большака, на который вышли разведчики, виднелись позиции дальнобойной артиллерии немцев. По дороге то и дело с урчанием и грохотом проезжали огромные, крытые брезентом грузовики, обдавая прохожих сизым, масленым перегаром солярки. Изредка попадались телеги с местными жителями.
И никто не обращал внимания на человека, шагавшего в немецкой, по-фронтовому грязной шинели, перехваченной солдатским ремнем, и на семенившего рядом с ним мальчишку.
К вечеру ветер разметал по небу хмурые тучи, кое-где показалось голубое весеннее небо, и в лужах заиграли солнечные зайчики. Идти стало легче.
К Алчевску подошли уже в сумерках. Где-то далеко позади перекатывался гул артиллерийских залпов. В течение дня этот гул несколько раз доносился издалека и вновь затихал так же внезапно, как и появлялся. Но если днем он слышался явственно и отчетливо, то теперь лишь призрачные, еле уловимые отголоски его приглушенно долетали до слуха.
— На этот раз будем искать настоящий ночлег, — сказал Леонид, положив руку на плечо Виктора. — Может, найдется добрая душа, пустит переночевать.
— Надо на самой окраине пошукать. К ночи в город нам не с руки заходить, — отозвался Пятеркин.
— Устал небось за день?
— А что? Километров двадцать пять, а то и все тридцать мы отмахали… Не так уж я устал, как есть охота.
— Потерпи. Найдем ночлег, тогда и перекусим. Доедим сало, а завтра промышлять начнем.
Лишь утром в железнодорожной будке съели они по ломтику этого сала и по небольшому кусочку хлеба, столько же припасли и на вечер. Это было все, что прихватили они в дорогу. Правда, оставались еще четыре плитки немецкого шоколада. Но то был неприкосновенный запас, рассчитанный не столько для утоления голода, сколько на случай обыска. Шоколад германского производства мог лишний раз подчеркнуть принадлежность Дубровского к немецкой комендатуре.
Подойдя к старой, покосившейся мазанке на самой окраине Алчевска, Леонид постучал в маленькое окошко. Дверь отворила согбенная старушка с костлявыми, жилистыми руками. Без разрешения немецкого коменданта она было отказалась пустить на ночлег незнакомых пришельцев, но, увидев в руках Леонида целую пачку оккупационных марок, приветливо пригласила в дом.
В углу, под низким потолком единственной комнаты, перед иконой, мерцала лампада. Еще не снимая шинель, Дубровский спросил:
— Одни проживаете?
— Одна я, сынок, совсем одна маюсь. Муж еще в ту войну не возвратился. Две дочки замужем в Харькове жили. Теперича и не знаю где…
Леонид присел на скамью возле низкого деревянного столика, окинул взглядом комнату: комод, кровать, сундучок, несколько табуреток, пустой чугунок на остывшей печи. Потом не торопясь отсчитал десять марок и протянул их старухе.
— Это за одну ночь. Утром дальше пойдем. Свою часть догонять надо.
— Кто ж ты у немцев будешь? — полюбопытствовала старуха.
— Переводчик я. В комендатуре работал. Да вот от части своей отстал. А хлопчик этот батьку ищет. Ушел батька зимой во время отступления. Полицай Иванов со станции Чир. Может, слыхала?
— Не… сынок, у меня полицаев не было. Солдаты немецкие на постой становились, то правда, а полицаев не было.
Старуха бережно пересчитала деньги и спрятала их за пазуху.
— Бабуся, а печку нам не истопишь? — спросил Дубровский, пытливо оглядывая хозяйку.
— Ох! Трудно, трудно, сынок. Уголька-то совсем нет. Шахты ноне без дела стоят. Ведерочко угля на базаре, почитай, сто пятьдесят рублей стоит.
— А марки немецкие разве не в ходу теперь?
— Пошто не в ходу? Ходють и марки. Одна за десять рублей идет. Зимой было одни марки шли. А ныне, как русская антиллерия послышалась, все больше на рубли торгують. Но и марки немецкие тоже беруть.
Дубровский отсчитал еще двадцать марок и, протягивая их старухе, сказал:
— На тебе и на уголек, бабуся, только истопи нам печку. Погреться хочется, да и пообсохнуть.
— Хорошо, хорошо, сынок. И на том спасибо. — Хозяйка обрадованно схватила деньги. — У меня трошки угля осталось. И картошки немного найду. Со своего огородика припасла. Сейчас затоплю и чугунок поставлю.
— Вот и отлично. Располагайся, Виктор, — сказал Дубровский, снимая шинель.
Пятеркин, скинув куртку, принялся расшнуровывать ботинки. Хозяйка, перекрестившись на икону, причитая, стала растапливать печку. Вскоре хата наполнилась густым теплым духом.
Ознакомительная версия.