— Вы готовы, мастер Хэйтем? — спросила Бетти — лоб ее был наморщен, глаза утомлены. В течение многих лет — это длилось столько, сколько могла вместить моя память — она помогала Эдит. Теперь она осиротела, как и я.
— Да, — ответил я, одетый, по обыкновению, в костюм и, по сегодняшнему случаю, в черный галстук. Эдит была на свете одна-одинешенька, вот почему только оставшиеся в живых Кенуэи с домочадцами собрались в людской на поминки — с ветчиной, элем и кексом. Когда все было съедено, рабочие из похоронной компании, уже изрядно пьяные, погрузили ее тело в катафалк и отправили в церковь. А мы сели в похоронные экипажи. Нам понадобилось всего два. Когда все кончилось, я вернулся к себе в комнату, чтобы продолжить рассказ…
2
Несколько дней подряд после разговора с доброжелательным глазом Тома Барретта его слова не выходили у меня из головы. Поэтому однажды утром, когда мы с Дженни были в гостиной одни, я решил расспросить ее об этом.
Дженни. Мне было почти восемь, а ей двадцать один, и у меня с ней было столько же общего, сколько с поставщиком угля. И даже, наверное, еще меньше, потому что и поставщик угля, и я любили, по крайней мере, смеяться, а у Дженни я редко видел хотя бы улыбку, не то что смех.
У нее были черные блестящие волосы, а глаза темные и. я бы сказал, «сонные», хотя другие определяли их как «задумчивые», а один поклонник дошел даже до того, что назвал ее взгляд «дымчатым», но это далеко от истины. Внешность Дженни часто была темой для разговоров. Она очень красива, во всяком случае, я это слышал часто.
Но мне это все равно. Для меня она была просто Дженни, которая уже столько раз отказалась со мной играть, что мне бы давно не следовало приставать к ней; и которая в моих воспоминаниях всегда сидит в высоком кресле, наклонившись над шитьем или над вышивкой — но в любом случае с иголкой и нитками. И хмурится. Это вот этот взгляд ее поклонники называют дымчатым? Я называю его хмурым.
Вся штука в том, что хотя мы и были не больше чем гости в жизни друг друга, словно корабли, входящие в тесную гавань, которые плывут рядышком, но никогда не соприкасаются, — так вот, вся штука в том, что у нас был один отец. И Дженни, родившаяся на десять с лишним лет раньше меня, знала о нем гораздо больше, чем я. Поэтому даже если бы она годами рассказывала мне, я был слишком глуп и слишком мал, чтобы понять; но хотя нос у меня все еще не дорос, я все-таки пытался втянуть ее в разговоры. Не знаю зачем, потому что я неизменно уходил с пустыми руками. Может быть, я просто хотел ей досадить. Но сейчас, через несколько дней после моей беседы с благожелательным глазом Тома, я затеял расспросы потому, что меня действительно разбирало любопытство, о чем недосказал Том.
И поэтому я спросил:
— Что о нас говорят другие?
Она театрально вздохнула и подняла глаза от рукоделья.
— О чем это ты, Прыскун?
— Ну, вот об этом — что о нас говорят другие?
— Ты имеешь в виду сплетни?
— Если тебе так понятней.
— А не все ли тебе равно, что о нас сплетничают? Не слишком ли ты.
— Не все равно, — перебил я, не дожидаясь, пока мы начнем обсуждать, что я слишком мал, слишком глуп и у меня нос не дорос.
— Вот как? Почему же?
— Но ведь почему-то болтают.
Она сложила работу, спрятала ее за подушку на кресле и сжала губы.
— Кто? Кто болтает и что именно?
— Соседский мальчик за воротами. Он сказал, что у нас странная семья и что наш отец раньше был. ээ.
— Ну?
— Дальше неизвестно.
Она улыбнулась и принялась за рукоделье.
— И тебя это озадачило, да?
— А тебя, что ли, нет?
— Я и так знаю все, что положено, — ответила она высокомерно, — и вот что я тебе скажу: болтовня соседей не стоит и выеденного яйца.
— Ну, тогда расскажи, — сказал я. — Что делал отец до моего рождения?
Дженни умела улыбаться, когда хотела. Она улыбалась, когда одерживала верх и когда для этого не надо было сильно напрягаться — прямо как со мной сейчас.
— Узнаешь, — сказала она.
— Когда?
— Всему свое время. В конце концов, ты его наследник.
Мы долго молчали.
— Что ты имеешь в виду под «наследником»? — спросил я. — Какая разница, я или ты?
Она вздохнула.
— Ну, на данный момент небольшая, хотя тебя и учат обращаться с оружием, а меня нет.
— Тебя не учат?
Честно говоря, я и так это знал, а спросил только потому, что мне было интересно, почему это меня учат военному делу, а ее вышиванию.
— Нет, Хэйтем, владеть оружием меня не учат. Никого из маленьких детей этому не учат, во всяком случае, в Блумсбери, а может быть, и в Лондоне. Никого, кроме тебя. Разве тебе не сказали?
— Не сказали что?
— Никому не болтать.
— Сказали, но.
— Ну вот, неужели ты не задумывался почему — почемуты не должен болтать о чем-то?
Может, и задумывался. Может, втайне догадывался. Я промолчал.
— Скоро ты поймешь, что тебе предназначено, — сказала она. — Наши жизни предначертаны, можешь не волноваться.
— Ну, хорошо, а тебе что предназначено?
Она насмешливо фыркнула.
— Что предназначено мне? Вопрос неверен. Ктопредназначен. Так точнее.
В голосе у нее было что-то такое, чего я до поры до времени все равно не понял бы, но посмотрев на нее, я почувствовал, что дальше расспрашивать не стоит, если не хочу ее разозлить.
И когда я отложил книгу, которую держал в руках, и вышел из гостиной, я понял, что я не узнал почти ничего об отце или о семье, но зато узнал кое-что о Дженни: почему она никогда не улыбается; и почему она так враждебна ко мне.
Потому что она знала будущее. Она знала будущее и знала, что для меня оно благоприятное просто потому, что я родился мужчиной.
Возможно, я и пожалел бы ее. Возможно… если бы она не была такой брюзгой.
Тем не менее, мои новые знания позволили мне на следующих занятиях с оружием испытать особый трепет. Потому что — никого больше не учат владеть оружием, только меня. Это было неожиданно и выглядело так, словно я вкусил запретный плод, а тот факт, что моим наставником был отец, только сделало его более сочным. Если бы Дженни была права, и меня и в самом деле готовили к какому-то предназначению, как других мальчиков готовят стать священниками, или кузнецами, или мясниками, или плотниками, — тогда это здорово. Это как раз то, что мне нужно. Для меня в целом свете не было никого выше, чем Отец. Мысль, что он передает мне свои знания, и ободряла, и волновала.
И конечно, она включала в себя меч. Чего же большего может желать мальчик? Оглядываясь назад, я понимаю, что с того-то дня я и стал самым страстным и ревностным учеником. Ежедневно, в полдень или после ужина, в зависимости от отцовского распорядка, мы встречались в комнате, которую мы называли тренировочным залом, хотя на самом деле это была игровая. И именно там я стал обретать навыки владения мечом. После налета я не занимался ни разу. У меня не хватало мужества приняться за клинок, но я знаю, что когда я это сделаю, мысленно я увижу эту комнату — с темнодубовой обшивкой на стенах, с книжными полками и прикрытым бильярдным столом, сдвинутым в сторону для большего простора. А в ней отца — светлоглазого, стремительного и добродушного, всегда улыбчивого, всегда наставляющего: блок, защита, ноги, баланс, думай, предвидь. Эти слова он повторял, как заклинание, иногда не произнося за весь урок ничего другого, кроме отрывистых команд, и кивая, если я выполнял их правильно, и отрицательно качая головой, если я ошибался, и лишь изредка он останавливался, чтобы откинуть упавшие на лицо волосы или зайти мне за спину и поправить постановку рук или ног.
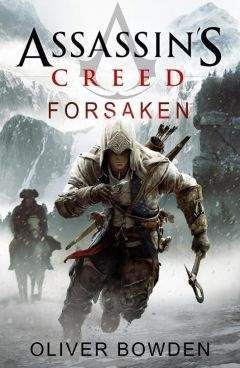

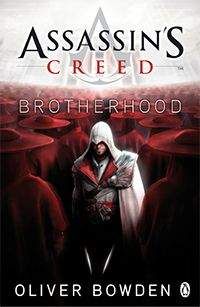
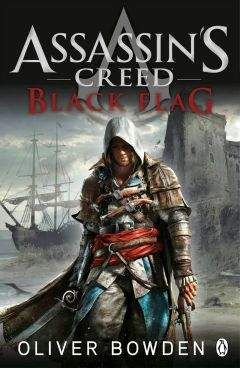

![Роберт Говард - Огненный нож [= Кинжалы Джезма]](https://cdn.my-library.info/books/no-image.jpg)