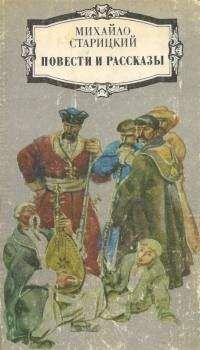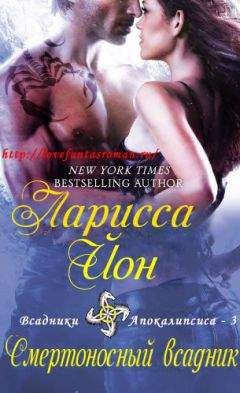Славута сбросил шапку и, осенив себя широким крестом, спрыгнул с коня и преклонился к самой земле.
— То-то наш Киев! — вздохнул цехмейстер Щука. — Думаю, нет такого города и в немецкой земле?
— Нету, пане цехмейстре, нету! — вскрикнул с жаром Славута. — Ни такой святыни, ни такой красы!
— Да шарпают они нашу красу. Вон доминикане и бернардины своих кляшторов сколько наставили! — указал он вдаль пальцем, в ту сторону, где у подножья горы виднелся острый шпиль костела. — А сколько грунтов от города отволокли! Опять воевода теснит горожан. А подати эти все! Где тут торговать! Покуда товар до места довезешь, так одного мыта возового и мостового[12] в пять раз больше отдашь, чем он сам в Царьграде стоил. Вот теперь и последнее — шинки наши хочет оттягать.
Между тем всадники быстро приближались к городу. Уже начали ясно обозначаться улицы, дома, острая вершина ратуши, городская брама, и чем больше приближались всадники тем угрюмее глядел на них грозный замок с вышней горы.
А Щука продолжал говорить так же медленно и степенно, как бы разворачивая перед собой длинную нить своих тысячу раз передуманных дум. Говорил и о стеснительности торговых пошлин, и о намерениях воеводы, и об хитрости и стяжательности наплывших в город новых элементов, но Славута это рассеянно слушал: глаза его старались различить среди все расступавшихся улиц один высокий красный черепичный дом, как вдруг несколько слов Щуки, рефлективно долетевших до его слуха, пробудили снова его внимание.
— А я ему говорю, чтоб он Ходыке не верил, потому Ходыка сам первый плут, первый зух… Знаем его, он ведь за воеводу руку тянул, а теперь хочет только с войтом породниться… потому что воевода стоит на перешкоде всем его темным делам.
— Как? С войтом породниться? — невольно потянул повод Славута, устремляя на Щуку изумленные, расширившиеся глаза.
— А так, самым простым звычаем, — пожал плечами Щука, недоумевая, что могло показаться Славуте странным в его словах. — Просватал за своего брата Федора Галю, войтову дочку.
— Не может быть! — крикнул запальчиво Славута, и яркая краска залила его лицо.
— Гм! — усмехнулся недовольно Щука. — Ты меня учишь? Когда говорю — так знаю. Просватал уже, скоро и весилля будут гулять.
— Не может быть, говорю вам, не может быть! — кричал Славута. — Я говорю, что она не пойдет за него.
— Ты говоришь? А почем ты знаешь? — ответил Щука, раздражаясь все больше. — А я тебе говорю, что идет, и с радостью идет, и где бы нашлась такая дура из этих белых голов,[13] чтоб за Ходыкины маетки не пошла!
— Ложь! Ложь! Ложь! — крикнул Славута, хватая нагайку и подымаясь в стременах.
— Да как ты смеешь, блазень, мне, цехмейстру столяров и плотников… — схватился было взбешенный Щука.
Но Славута уже не слыхал его слов; как вихрь, как буря, мчался он к городу, стискивая коня. От быстрого бега ремни в тороках распустились, и красный, как огонь, роскошный суконный плащ свесился с коня. Не останавливая лошади, подхватил его Славута и набросил себе на плечи. Вот и Мийская брама, мост спущен. В карьер промчался по мосту обезумевший конь. У въезда сторожа хотели остановить его.
«Мыто! Мыто!»— закричали ему. Но не видя, не слыша ничего, промчался он мимо них в красном, развевающемся плаще. Один из сторожей успел, однако, опомниться и схватился было за стремя, но розгоряченный конь ударил его с такой силою, что бедный стражник покатился в беспамятстве наземь. Часть сторожей бросилась подымать товарища, часть погналась за Славутой, но Славуты не было и следа.
На шум и на крики собралась вокруг перепуганных сторожей пестрая толпа. Горожанки в белых намитках, горожане в высоких меховых шапках.
— Что случилось, что сталось? — кричал грозно запыхавшийся кругленький человек в военном костюме, пробираясь вперед через толпу.
— Червоный дьявол, пане Лою, в город влетел, — ответил прерывающимся голосом один из сторожей, — на черном коне… из ноздрей огонь валит… красный плащ развевается… Степан бросился было схватить его за стремя, да так замертво и упал…
— Ловить! Ловить! Трусы! Страхополохи! — закричал из всех сил кругленький человек, бросаясь вперед и скрываясь в ближайших дверях. Но толпа уже не слыхала его слов. «Дьявол, дьявол в город влетел!»— зашумели кругом обезумевшие от страху голоса, и вся площадь перед Мийской брамой опустела в один момент.
Мрачный и сердитый вышел пан войт киевский Яцко Балыка из своего богатого дома. Приказавши еще раз молоденькой дочери Гале запереть и дом, и ворота на железные болты и не впускать до его возвращения никого, войт отправился на вечернее заседание в магистрат. Медленно шел войт, осторожно пробираясь по кривым и узким улицам. Он опирался на толстую тростниковую палку с острым шипом, украшенную дорогим золотым набалдашником. Седая голова войта была низко опущена; лицо, обыкновенно добродушное и приветливое, было теперь угрюмо и сердито. Время от времени у войта вырывались недовольные слова, он сердито постукивал палкою, посылая кому-то в вечернюю мглу самые ужасные проклятия, какие он только знал.
— О-го-го-го! Да и сердит же как войт сегодня! — замечали друг другу болтливые горожанки, сидя еще на скамеечках у своих ворот и кивая хорошенькими головками, завернутыми в белые намитки. Встречные горожане кланялись войту, но сердитый войт не замечал никого. Да и как же было не сердиться войту? Не далее как позавчера воевода нанес ему такую обиду, какой он не забудет никогда. Пану воеводе понадобились подводы ехать на охоту, на вловы, а пан воевода прислал к нему, к войту, с требованием доставить лошадей. Так, войт знает, что есть такое правило в градских книгах давать лошадей, если воевода едет по потребе, и то не далее двух миль. Но войт знал прекрасно и то, на что нужны кони воеводе, да и воевода, получивши подводы, нарочито промчался по всему городу с гиком и криком со всеми своими прихлебателями, с хортами и ружьями. Что ж? Лошади вернулись к вечеру заезженные, загнанные вконец. Да не жаль войту лошадей: хватит у него статков-маетков, чтоб и новых накупить, а не может он стерпеть нарушения прав мийских и своих! А вот вчера опять прислал воевода своих дозорцев приказать горожанам огни в домах тушить… Не имеет он на то права! Пан войт знает все права и привилеи напамять, хоть ночью его разбуди! Знает он, что тушение огня в домах вечерней порой ему принадлежит, и воеводе в грамоте строго наказано: «А ни чим ся в него не вступоваты». Хочет воевода оттягать от него права, да не на такого человека напал: не легко согнуть войта! Правда, есть у него и враги в городе, зато все старожитни люди за него горой постоят! Вот был ворог и Хитрый и лютый — Ходыка, а теперь сам породниться хочет. За брата, Федора, как просил! Больно, говорит, полюбилась ему, пане войте, дочь твоя… «Ну, положим, кому Галя и не полюбится, где такого дурня и сыскать?! — улыбнулся самодовольно войт, и по сердцу его прокатилась теплая волна. — Да и не бесприданница, есть, слава богу, что дать! Правда, нет таких поместий, какие вот теперь приобрел себе Ходыка, зато древнее добро, дедовское, честно нажитое, а не награбованное, как у этих харцыз!» Войт стукнул сердито палкой по снегу. Эх, не лежит-то его сердце к этим новым людям, то есть так вот не лежит, а что делать?.. Надо родниться! Обещает Ходыка, как только он повенчает дочку с его братом, скрутить воеводу и в шоры взять! А он это может! Он ведь все законы умеет затылком наперед перевернуть. Дожился, пане войте, до краю, пришлось на старость лет у Ходыки помощи искать, к новым звычаям привыкать… Войт уныло понурил седую голову и, погрузившись в печальные размышления, не заметил, как мимо него пробежало несколько испуганных насмерть горожан с криком: «Червоный дьявол! Червоный дьявол!» То ли было в доброе старое время? Жили себе люди просто, зато сытно. Никаких этих новых обычаев не знали. Пили мед да пиво, горелку дзюбали, а ни этих венгерских, ни мальвазий и в помине не было. Ели добре по-старожитнему кашку с грибками, или вареники, или гуску с капустой, а в праздник и кашу рыжову с шафраном да имбирем, а теперь настроят всяких этих легумин да паштетов, что твои горы стоят! Опять что до одежи: мудрует вельможное панство, а за ним и горожане тянутся. И людям зазорное, и богу противное носить стали: черевики на высоких каблуках, шапки-мегерки, кунтуши разные! «Эх, — махнул войт рукой, — не так жили в старину, зато крепко стояли за свои привилеи, за свои права — все как один!»