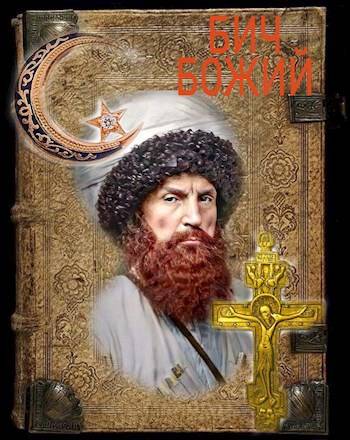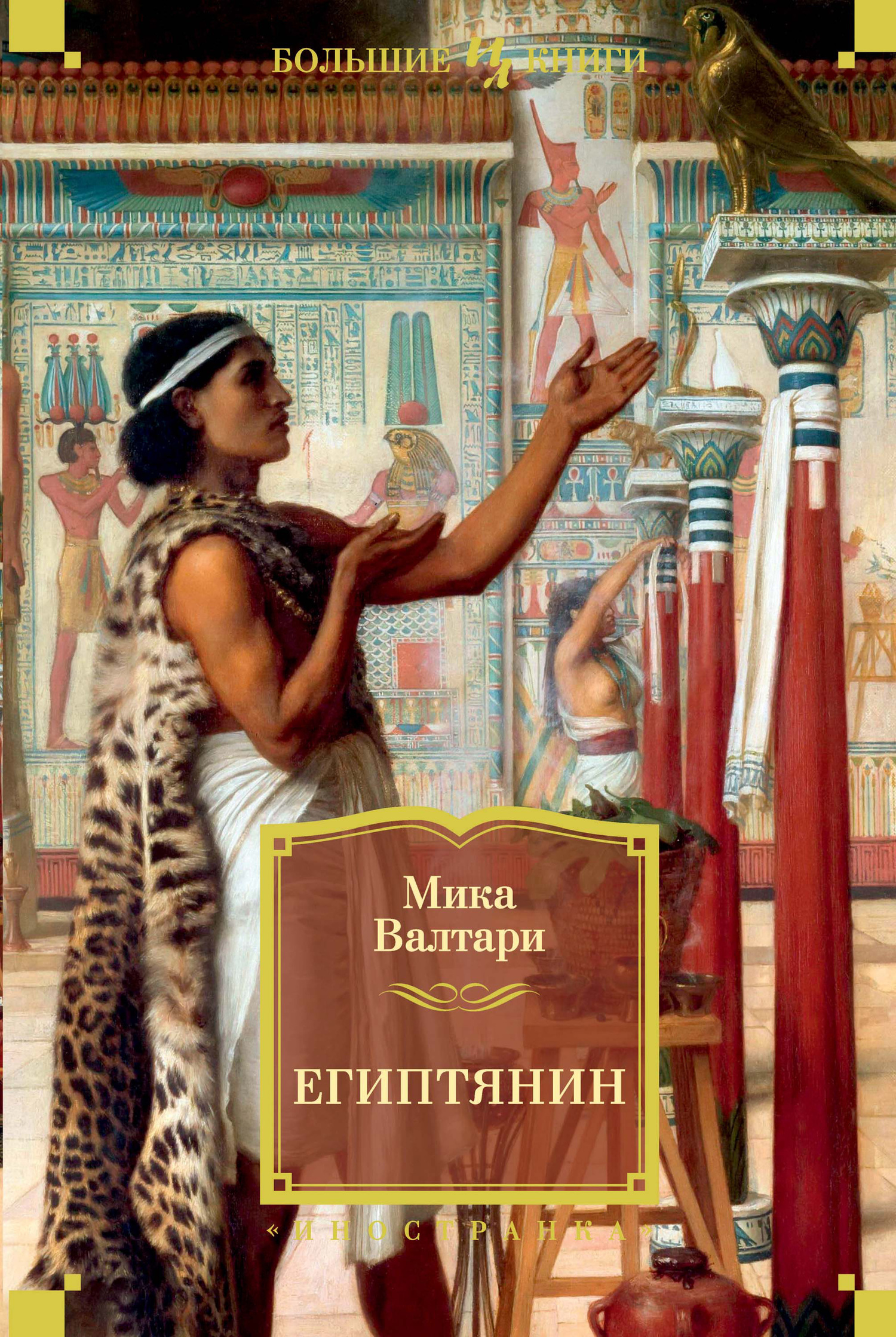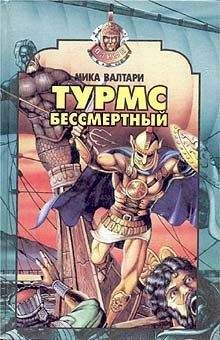Великий визирь желал, чтобы я тихо присутствовал при всех его разговорах с иноземными послами и в случае необходимости мог подтвердить, что он всегда думал лишь о благе султана. Я же, прислушиваясь к этим беседам, набирался все большего опыта в политических делах и овладевал искусством ловко подбирать слова, с помощью которых можно говорить много, но так и не сказать ничего. И еще я до конца постиг человеческое ничтожество, себялюбие, пустое тщеславие и жалкую слабость.
В обществе поэтов и ученых дервишей я научился помнить о том, что любые успехи в этом мире — преходящи, и потому не слишком старался заиметь собственную точку зрения. Я готов был согласиться с чем угодно — лишь бы мне не надо было отказываться от своих все растущих доходов, благодаря которым Джулия могла жить так, как ей хотелось, и не изводить меня вечными попреками. Теперь, в те редкие минуты, когда Джулия пребывала в особенно хорошем настроении, она даже порой признавала, что я все-таки не такой недотепа, как она думала. Ведь для жены моей мерилом успеха были деньги и драгоценности.
Джулия, конечно, мечтала увидеть меня в золоте и шелках в парадном зале сераля, где я, скрестив руки на груди и скромно опустив очи долу, стоял бы у стены и ждал, когда султан пожалует мне халат со своего плеча. Но, к счастью, она и сама стала любимицей обитательниц гарема. Даже мать султана принимала ее у себя в старом серале и просила гадать на песке, хоть ворожба эта и вызвала у нее однажды тяжелый сердечный приступ. Ведь я мягко направил пророчества Джулии в нужное русло, и жена моя действительно начала предсказывать, что султана Сулеймана сменит на троне Османов Селим, сын султанши Хуррем.
Удивительно, но сама Джулия настолько поверила в собственные пророчества, что теперь обращалась к принцу Селиму с исключительным почтением.
Время от времени она приносила мне из сераля новости и предостережения, которые явно исходили от султанши Хуррем и которые эта хитрая женщина хотела по тем или иным причинам передать через меня великому визирю. Ибрагим же со своей стороны считал ниже собственного достоинства вступать в любые закулисные переговоры с султаншей через Джулию.
Думая так, он, разумеется, совершал огромную ошибку, ибо не мог себе представить, насколько сильным характером обладает султанша и насколько велико ее честолюбие. Но кто в ту пору мог все это предвидеть?
При западных дворах султаншу Хуррем уже начали называть Роксоланой, русской женщиной или утренней звездой. Через Золотые Ворота гарема в руки к ней плыли бесчисленные дары даже от христианских королей и принцев, о ее роскошных покоях, великолепных нарядах и ослепительных драгоценностях рассказывали невероятные истории.
Но поговаривали и о ее дикой ревности, которая превращала жизнь в гареме в сущий ад. Ведь когда какая-нибудь невольница пыталась привлечь к себе внимание султана — или же он сам случайно бросал взгляд на одну из рабынь, Хуррем весело смеялась, но вскоре после этого несчастная девушка бесследно исчезала.
Не могу точно сказать, получала ли султанша подарки от посла императора или от короля, из Вены. Но в те тревожные дни она — если можно верить Джулии — изо всех сил старалась склонить Сулеймана к примирению с императором и к походу на Восток.
С точки зрения большой политики это было, разумеется, полным абсурдом, ибо император, только что коронованный папой и заключивший мир с Францией, достиг вершин своего могущества. В Аугсбурге ему даже удалось запугать протестантскую знать и принудить ее к повиновению, и теперь он, уверенный в будущей победе, начал тайно готовиться к войне с султаном. Но по своему обыкновению его наихристианнейшее величество вел себя, прямо следуя словам Писания о правой руке, не ведающей того, что творит левая. Протягивая султану левую руку в знак примирения, он потихоньку нащупывал правой кинжал, чтобы нанести Сулейману смертельный удар.
Никогда еще, пожалуй, держава Османов не была в такой опасности, как сейчас. И искреннее стремление султана к миру было вполне понятным.
К счастью, следствием императорского ультиматума, предъявленного немцам-протестантам, явилось лишь то, что маркграф Филипп основал в Шмалькальдене союз[29] властителей, которые поддерживали учение Лютера. Король Сапойаи и король французский тоже были замешаны в этой истории, но главной, тайной и, по-моему, решающей причиной столь смелого выступления немецкой знати были клятвенные заверения великого визиря Ибрагима, который обещал, что султан поможет немецким протестантам, если дело и впрямь дойдет до войны между ними и императором.
Не берусь утверждать, кого именно из немецких графов турецкое золото укрепило в вере, но точно знаю, что маркграф Филипп получал немалые суммы на вооружение своего войска и выплату солдатам жалованья.
Я часто вспоминал этого мужчину с продолговатым лицом и холодными голубыми глазами... По сравнению с союзом, который ему удалось сколотить, невинные проповеди отца Жюльена в немецких землях не имели особого значения. Ведь Лютер и его священники стали теперь столь же ревностно блюсти чистоту своего учения, как это издавна делала католическая церковь.
И я с искренним сожалением должен сообщить, что отец Жюльен так никогда и не вернулся к нам, чтобы потребовать обещанную епархию. Разъяренная толпа под предводительством лютеранского священника в каком-то маленьком немецком городке забила беднягу камнями насмерть.
Благодаря Шмалькальденскому союзу мы избавились от самых больших наших неприятностей, и у султана не было отныне никаких причин прислушиваться к людям, уговаривавшим его заключить мир с императором.
Великий визирь Ибрагим уже снова вынашивал грандиозные планы завоевания немецких земель с помощью протестантской знати. Лично я всегда был человеком мирным и ненавижу войну в принципе. Но раз уж армия не могла оставаться без дела и ее нужно было поскорее отправлять в новый военный поход, то я, не имея никаких интересов в Персии, считал, что мы ничего не потеряем, но можем многое выиграть, если снова вторгнемся в Венгрию.
Среди суровых гор, бесплодных пустынь и густых лесов Персии даже большое войско легко могло пропасть, как иголка в стоге сене. Зато в немецких землях императору связывал теперь руки Шмалькальденский союз.
Столь удобного случая нам могло больше и не представиться...
8
Особенно же необходимой эта война казалась мне из-за Антти; я все корил себя за то, что из-за множества разных дел совсем забыл о самом верном своем друге и не вспоминал о нем целыми месяцами.
Но вот однажды, ясным весенним утром, когда в саду моем уже начали распускаться огненно-красные и светло-желтые тюльпаны, покачивавшие головками под свежим ветром с Босфора, Антти постучал в дверь моего дома. Услышав громкий крик слуги, я поспешил к воротам — и в первый миг не узнал своего старого друга.
Он пришел босиком, с котомкой за плечами, одетый в грязные кожаные штаны; голову его прикрывал дырявый тюрбан, и я сначала решил, что вижу одного из бесчисленных нищих, которые привыкли лежать у нас под забором и ждать объедков с нашего стола. Поняв же наконец, кто стоит передо мной, я вскрикнул от изумления.
В ужасе смотрел я на Антти — и никак не мог взять в толк, что же с ним случилось, ибо изможденный великан едва держался на ногах, глаза его чуть не вылезали из орбит, а бледное лицо судорожно кривилось.
Не отвечая на мои беспорядочные вопросы, он швырнул котомку на землю, сорвал с головы тюрбан и, вперившись в меня безумным взором, через несколько минут сказал:
— Ради Аллаха, Микаэль, дай мне напиться — и чего-нибудь покрепче, или я окончательно рехнусь!
Видя, в каком он плачевном состоянии, я сначала решил, что бедняга вчера изрядно набрался, однако вином от него не пахло.
И я отвел Антти на причал, прогнал оттуда негров-гребцов и собственноручно принес гостю бочонок дорогой мальвазии. Антти тут же двумя руками схватил бочонок и большими глотками выпил добрую половину содержимого. Вскоре судороги у великана прекратились, и он в бессилии рухнул на причал — с таким грохотом, что все хрупкое сооружение заходило ходуном и к небу взметнулась туча пыли.