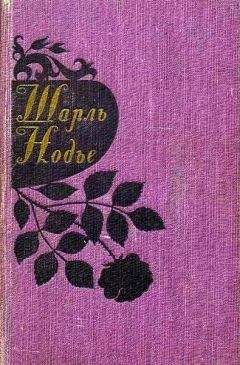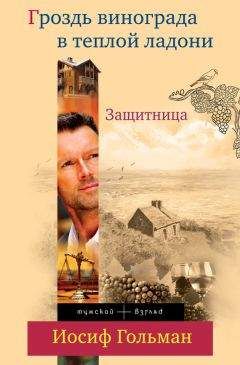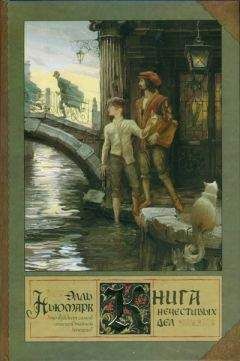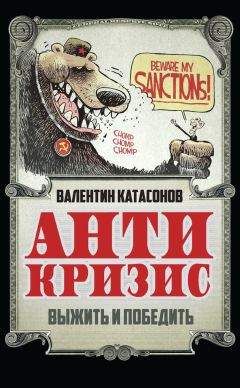Судьба Антонии свершилась. На земле у нее не оставалось никого, кроме этого страшного, влюбленного в нее человека, который так таинственно предстал перед нею в Фарнедо и был самим Жаном Сбогаром. Любовь Жана Сбогара охраняла ее и была так заботлива и целомудренна, что это, наверно, удивило бы ее, если бы расстроенный рассудок позволил ей подумать о своем положении. Из хижин Сестианы привели молодых женщин, которые прислуживали ей и ухаживали за ней, из соседних городов были приглашены или привезены насильно знаменитые врачи, чтобы излечить ее недуг; священник, давнишний узник разбойников, тот самый, что служил погребальный молебен по г-же Альберти в подземелье, превращенном в часовню для этой Церковной службы, неотступно находился возле ее ложа, чтобы приносить ей утешения неба, когда у нее появлялись проблески сознания.
Все эти свирепые люди, в душе которых рождались до сих пор одни лишь кровожадные замыслы, выражали ей свою покорность самыми трогательными и нежными способами, словно очищенные ее невинностью и тронутые ее горем. Антония постепенно привыкала видеть их и рассказывать им о тех причудливых грезах, что сменяли друг друга в ее больном воображении. Один только Жан Сбогар, несмотря на то, что лицо его всегда было закрыто черным крепом или забралом шлема, не осмеливался появляться возле нее иначе, как во время ее сна или в те минуты, когда она бывала в бреду и никого не узнавала; только тогда мог он упиваться мучительным созерцанием любимой, не опасаясь внушить ей страх и отвращение. Но все же однажды, не в силах более скрывать терзавшие его чувства, он упал к ее ногам и глухо вскричал сквозь рыдания: — Антония, дорогая Антония!
Она повернулась в его сторону и ласково поглядела на него. Он хотел тотчас же удалиться, но она сделала ему знак, чтобы он оставался, и он остановился, склонив голову на грудь, всем своим видом выражая повиновение и внимание.
— Антония! — произнесла она после минуты молчания. — Это, кажется, в самом деле мое имя; так называли меня в доме, где я родилась; мне тогда обещали, что я буду счастлива. Слушай, — сказала она, взяв разбойника за руку, — я хочу рассказать тебе одну тайну. В дни моей ранней юности, когда я думала, что жить так легко и отрадно, когда кровь еще не пылала в моих жилах, когда щеки мои не горели от слез, когда я не видела духов, что носятся по лесам, разверзают землю, топнув ногой, и открывают в ней бездны глубже моря, выбрасывая оттуда потоки огня; когда души убийц, не знающие покоя в могиле, еще не кружились вкруг меня с жестоким смехом, когда, пробудившись, мне не приходилось отрывать от себя ядовитую змею, вцепившуюся мне в волосы, змею, голова которой в синеватой ядовитой пене покоится у меня на шее… В те далекие дни я знала одного ангела, странствовавшего на земле; лицо его тронуло бы сердце отцеубийцы. Но я только мельком видела его, потому что господь отнял его у меня, позавидовав моему счастью… Я называла его Лотарио, моим Лотарио… Помню, у нас был дворец — далеко-далеко, в горах. Никогда не найти мне туда дороги…
Хотя разбойник не открывал своего лица, Антония заметила, что при последних словах слезы его полились еще сильней. Она улыбнулась ему с нежным состраданием; потом она снова взяла его руку, которую было выпустила и которая не смела задержать ее руки, и сказала:
— Я знаю, что огорчаю тебя, и прошу у тебя прощения за это. Знаю, что ты любишь меня, что я — твоя невеста, невеста Жана Сбогара. Видишь, я тебя узнала и сегодня говорю с тобой вполне разумно. Наша свадьба давно уже решена, но я не хочу ничего скрывать от тебя. К тому же ведь возможно, что этого Лотарио никогда и не было на свете! Последнее время я видела столько людей, существующих лишь в моем воображении; они ускользают от меня, едва я приду в себя! Ты ведь так и не знаешь, например, была ли у меня сестра? Нет, — сказала она после недолгого раздумья, — если бы у меня была сестра, она заменяла бы мне мать и мы не могли бы обойтись без нее, празднуя нашу свадьбу. Скажи, мы пышно отпразднуем этот день, не правда ли? Это необходимо, ведь твоя невеста — богатая наследница. У меня есть золотые пряжки и брильянтовые кольца, чтобы украсить свой наряд; но на голове моей будет только простой венок из цветов шиповника.
Она снова умолкла. Безумие ее все усиливалось. Страшно было видеть ее улыбку.
— Это будет великолепный праздник, — продолжала она. — Весь ад будет на нем присутствовать. Свадебный факел Жана Сбогара затмит свет полуденного солнца. Видны ли тебе отсюда наши гости? Ты ведь их всех знаешь. Никого из них я не приглашала. Вот среди них те, у кого тело наполовину обуглилось от огня; а вот там — останки стариков и детей, — они проснулись и выбегают из зажженных тобой домов, чтобы принять участие в твоем празднике… Вот и другие: они поднимаются в своих саванах и пробираются к пиршественному столу, пряча свои кровавые раны. О боже мой! Какие чудовища убили эту молодую женщину? Бедная Люсиль! Каким именем они приветствуют меня?.. Ты слышишь, что они кричат? — «Да здравствует, да здравствует…» Никогда не посмею я повторить этого! «Да здравствует», — говорят они и все хором бормочут пароль всех проклятых, этот радостный крик, который издал бы сатана, победив своего создателя, это тайное слово, что произносит гнусная мать, собираясь зарезать своего ребенка, чтобы не слышать его стонов, — «да здравствует невеста Жана Сбогара!..»
И Антония потеряла сознание. Новый приступ беспамятства был длительным и страшным; долго опасались за ее жизнь. Восемь дней подряд разбойничий атаман неподвижно стоял у ее постели, внимательно следя за каждым ее движением, весь поглощенный заботами о ней. Он почти не смыкал глаз; он плакал.
И когда Антонии стало лучше, он оставался подле нее, уверенный теперь, что она уже смотрит на него без страха.
Это неусыпное внимание поразило ее.
Прошлое слишком смутно сохранилось в ее памяти, чтобы имя этого человека и связанные с ним воспоминания могли постоянно внушать ей чувство отвращения. Впрочем, бывали дни, когда душа ее возмущалась при мысли, что она находится во власти этого человека, и тогда одно его приближение заставляло девушку холодеть от ужаса; но чаще, повинуясь, как ребенок, одному своему инстинкту — ибо рассудок ее бездействовал, она видела в атамане разбойников Дуино лишь некое чувствительное, сострадательное существо, которое старается смягчить ее муки и предупредить малейшие ее желания. В такие дни она обращалась к нему с ласковыми и приветливыми речами, но, казалось, они только усугубляли снедавшую его тайную скорбь.
Однажды он сидел подле нее, как всегда — с закрытым лицом, охраняя ее сон. Внезапно она пробудилась и быстро приподнялась на постели, шепча имя Лотарио.