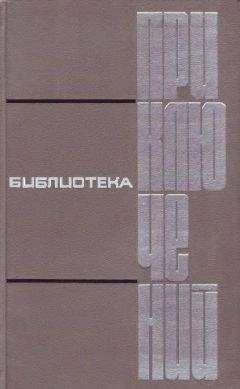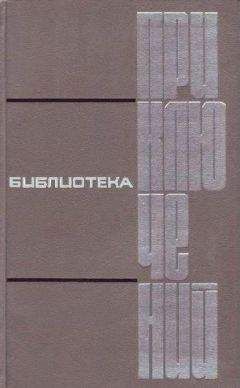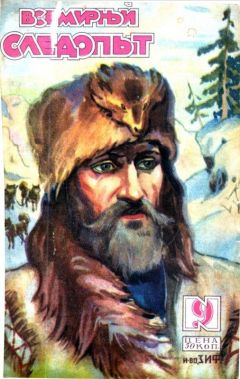Когда овцы начинали худеть или дохнуть от бестравия, Атах-баба велел снимать кибитку, собирать в узлы домашнее добро и уходить в дальнейшее безлюдие, где земля свежее и еще стоит нетронутой бедная трава. Весь небольшой род снимался с обжитого места и шел через горячий такыр в направлении одинакового пустого пространства. Впереди ехал аксакал и умные мужья на ишаках. Ишачки везли бугры сложенных кибиток и старых жен, позади брели вразброд, как безумные, овечьи стада, а Заррин-Тадж и прочие рабы шли пешком, унося на себе тяжелое серебро, подарки мужу старых друзей и еду в горшках.
Персиянка радовалась, если приходилось идти по песчаным холмам, утопая ногами в их теплоту. Она следила, как ветер тревожит и уносит дальше какое-то давно засохшее растение, рожденное, может быть, в синих смутных долинах Копет-Дага или на сырых берегах Амударьи. Но часто нужно было проходить долгие такыры, самую нищую глинистую землю, где жара солнца хранится не остывая, как печаль в сердце раба, где бог держал когда-то своих мучеников, но и мученики умерли, высохли в легкие ветви, и ветер взял их с собою.
Новое место всегда было труднее старого. Надо было расчищать и готовить колодцы, устраивать пастбища и разыскивать вдалеке, где уцелел занесенный песками саксаул.
С течением времени Заррин-Тадж начала отвыкать от своих интересов и от самой себя. Когда Атах-баба ел плов, а мясные остатки доставались только другим его женам, персиянка не мучилась от голода и зависти. Она всегда молчала и постоянно заботилась среди животных, не сознавая своей души, чтобы она ни о чем не тосковала.
Иногда она ложилась от утомления среди такыра, пустота и свет окружали ее. Она глядела на природу — на солнце и на небо — с изумлением своего сердца: “Вот и все!” — шептала Заррин-Тадж, то есть вот вся ее жизнь чувствуется в уме, и обыкновенный мир стоит перед глазами, а больше ничего не будет.
Она пробовала свое тело руками — кости были уже близко, кожа засыхала от усталости, руки сработались до жил — это исчезает понемногу ее жизнь: луна восходит медленно, но закатывается скоро.
Через несколько месяцев Заррин-Тадж родила маленькую девочку. Атах-баба обрадовался этой чужеродной жизни, потому что девочка останется у него рабыней, и велел назвать ее Джумалью.
Персиянка прижала ребенка к себе и поняла, что не все еще прожито ею. Была зима, с такыра текла в колодцы дождевая вода, осел кричал с такою грустью, что будто он остался на свете круглой сиротою и теперь заболел печалью.
Через некоторое время Заррин-Тадж ослабела, ее здоровье пропало, она легла и не могла подняться; ребенок лежал при ней и согревался о ее горячее тело. Кибитку продувало из-под низу, мертвый такыр шумел от потоков дождя. Атах-баба стоял над персиянкой, и слезы его капали на ее кошму; он страдал, что не может жить с нею дальше, такой худой, не помнящей его. Он ежедневно ел баранье мясо и сало, тяжкая сила любви скоплялась в его сердце, не зная облегчения с милой женщиной, которая лежала горячая и безумная. Изредка, в заглохшие ночи, Атах-баба откладывал ребенка от Заррин-Тадж и обнимал ее в тоске своей мертвой силы. Но время шло, как шумит ветер над песками и уносит весенних птиц в зеленые влажные страны. Персиянке представлялось в жарком, больном уме, что растет одинокое дерево где-то, а на его ветке сидит мелкая, ничтожная птичка и надменно, медленно напевает свою песню. Мимо той птички идут караваны верблюдов, скачут всадники вдаль и гудит поезд в Туран. Но птичка поет все более умно и тихо, почти про себя: еще неизвестно, чья сила победит в жизни — птички или караванов и гудящих поездов. Заррин-Тадж проснулась и решила жить, как эта птица, пропавшая в сновидении. Она выздоровела. Однако Атах-баба хранил ее ради ребенка и не велел несколько дней работать.
Другие жены давали ей пищу на кошму с бранью, оттого что она лежит здоровая, а они, старые и больные, мучаются одни в скучном труде.
Заррин-Тадж вскоре встала сама. Ей нечего было ни думать, ни чувствовать, поэтому легче было шевелиться в беспрестанной заботе по хозяйству и изживать понемногу свое сердце. Она стала опять спокойной, когда положила Джумаль в повязку за спиной и, склонившись, стала доить коз, собирать на топливо ишачьи остатки и вытаскивать воду из колодца. Если бы даже она была счастлива, она все равно занималась бы этими делами, потому что, чтобы сберечь счастье, надо жить обыкновенно.
Джумаль долго лежала за спиною у матери, свернувшись в комок от страха пережитого рождения и слушая с удивлением звук своего собственного сердца — в ожидании, когда оно остановится, чтобы уснуть; потом Джумаль начала постепенно ходить самостоятельно и понимать свое существование. “Это я!” — чувствовала она неизвестное и трогала хрящи своих будущих костей. Но еще долго Джумаль не отходила от матери и гладила ее низко согнутую спину, горячую и влажную, где она лежала, грелась и спала. Ей стало нравиться жить, и она ела глину, траву, овечий помет, уголь, сосала тонкие кости животных, павших в песке, хотя ей достаточно было материнского молока.
Ее маленькое тело опухло от веществ, которые все пошли ей в пользу и в рост, глаза, свежие от сырости недавнего прозрения, глядели внимательно и точно на все обычные вещи, к биению своего сердца она уже привыкла и не боялась, что оно остановится.
Долго шло ее детство. Каждый день горело солнце на небе, начинался и кончался ветер, играли и плакали дети в затишье песчаных холмов, потом солнце делалось красным, огромным и тяжелым, оно тонуло вдали, и легкая луна, как серебряная тень солнца, светила в измученное лицо стареющей матери, всегда занятой работой. Выдаивая верблюдицу, мать глядела на луну, на этот свет нищих и мертвых, потом персиянка ложилась на кошму и успевала только немного ласкать свою дочь, потому что сон быстро разлучал ее с нею.
Весною Заррин-Тадж в первый раз показала дочери на птиц, летевших высоко над песком неизвестно куда. Птицы кричали что-то, точно жалели людей, и вскоре пропали навсегда.
— Кто они? — спросила Джумаль.
— Они счастливые, — сказала мать, — они могут улететь на дальние реки, за горы, где растут листья на деревьях и солнце прохладно, как луна.
Джумаль не знала, что это такое, и не тосковала о реках и листьях. Она росла здесь, между барханами, и с высоты песков, насыпанных ветром, видела, что земля повсюду одинакова и пуста. Мать же плакала иногда и прижимала к себе девочку — она теперь была для нее дальней рекою, забытыми горами, цветами деревьев и тенью на такыре.
— Тебе хорошо там было, на реке и на горе? — спросила Джумаль.