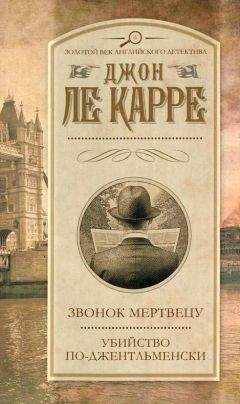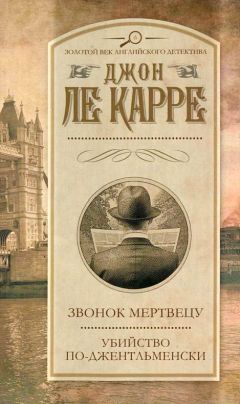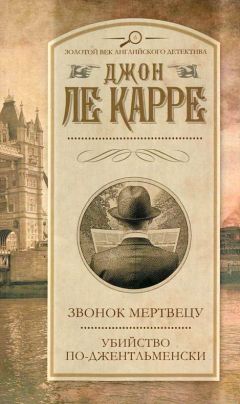Он вспомнил про письмо из Парижа на семи страницах. Вспомнил про второе доказательство. И подумал: «Интересно, кому была отправлена фотокопия – может быть, Эстерхейзи? А где же оригинал? Так кто же ездил в Париж? – недоумевал он. – Если Виллем ездил в Гамбург, то кто же тот маленький Волшебник?» Он устал до смерти. Усталость навалилась на него как внезапно подцепленный вирус. Он почувствовал ее в коленях, в чреслах, во всем теле. Но продолжал идти, так как мозг отказывался отдыхать.
Идти – на это Остракова была способна, ей только и хотелось идти. Шагать и ждать появления Волшебника. Ничто у нее не сломано. И хотя ее кряжистое маленькое тело после ванны покрылось черными пятнами, как карта угольного бассейна Сибири, оно все еще исправно функционировало. И несмотря на то, что ее бедный крестец, доставлявший ей столько беспокойства на складе, выглядел так, точно все армии тайных агентов Советской России трудились над ней, пинком посылая с одного конца Парижа на другой, тем не менее ничто не было сломано. Ее просветили рентгеном всю по частям, прощупали как сомнительное мясо, проверяя, нет ли внутреннего кровоизлияния. А под конец мрачно объявили, что она чудом выжила.
Посему ее хотели задержать. Полечить от шока, дать успокоительное – пусть хотя бы полежит ночь! Полиция, которая нашла шесть свидетелей происшедшего, давших семь противоречивых версий (Машина была серая или синяя? Номер на ней был марсельский или иностранный?), – полиция сняла с нее длинное показание, полицейские грозились снова прийти для дальнейших расспросов.
Тем не менее Остракова выписалась.
Есть ли у нее хотя бы дети, которые станут за ней ухаживать? – обеспокоились при выписке. О, у нее их куча, сказала она. Дочки, готовые выполнить малейшую ее прихоть, сыновья, которые помогут спуститься и подняться по лестнице! Сколько угодно раз – столько, сколько она пожелает. Стремясь развлечь медсестер, она даже придумала им биографии, хотя голова гудела, как барабан. Она послала купить ей одежду. Ибо на ней болтались какие-то лохмотья – сам Господь покраснел бы от ее растерзанного вида, в каком она предстала перед врачами. Она дала фальшивый адрес вместе с фальшивым именем: она не хотела последующего наблюдения, визитеров. И исключительно благодаря силе воли в тот вечер, ровно в шесть, Остракова стала еще одним бывшим бледным пациентом, осторожно и мучительно сходившим по скату черной громады больницы в тот мир, который немного раньше сделал все, чтобы навсегда избавиться от нее. Она шла в своих сапогах, побитых, но чудом уцелевших, и гордилась ими – по крайней мере они не изменили ей.
Вернувшись в полумрак своей квартирки, она села в продавленное кресло мужа и, не снимая сапог, словно они являлись частью униформы, принялась крутить в руках старый армейский револьвер, пытаясь понять, как, черт побери, его заряжают, нацеливают и стреляют. «Я – армия из одного человека». Продержаться в живых – такова ее цель, и чем дольше ей удастся протянуть, тем значительнее будет ее победа. Продержаться в живых, пока не приедет генерал или не пришлет своего Волшебника.
Ускользнуть от них так, как удалось Остракову? Что ж, ей это тоже удалось. Издевнуться над ними, как Гликман, загнать их в угол, где у них не будет другого выбора, кроме как любоваться собственной мерзостью? В свое время, не без удовольствия думала она, ей и это немного удалось. Но выжить, чего не удалось ни одному из ее мужчин, уцепиться за жизнь, невзирая на все усилия этого бездушного мира грубых чинуш, быть для них каждый час каждого дня бельмом на глазу только потому, что ты жива, дышишь, ешь, двигаешься и соображаешь, – это, решила Остракова, занятие, достойное ее натуры, ее веры и двух любимых ею мужчин. Она тотчас взяла на себя эту миссию. И послала дуру-привратницу за продуктами: немощь имеет свои плюсы.
– У меня был небольшой удар, мадам Ла-Пьер. – Но по части ли сердца, желудка или русской тайной полиции она не стала уточнять. – Мне рекомендовали на несколько недель оставить работу и дать себе полный отдых. Я совсем без сил, мадам, бывают такие периоды, когда хочется побыть одной. Вот возьмите, мадам, – вы не такая, как другие, которые только и знают, как бы урвать, и не спускают с тебя глаз. – Мадам Ла-Пьер зажала банкнот в кулак, взглянула на краешек и сунула куда-то за лиф. – И послушайте, мадам, если кто-нибудь будет меня спрашивать, сделайте одолжение: скажите, что я уехала. Я не буду зажигать огонь в комнатах, что выходят на улицу. Мы – женщины чувствительные, нам нужно немножко покоя, вы согласны? Но, пожалуйста, мадам, запомните, кто будут эти посетители, и скажите мне – газовик, кто-нибудь из благотворительных обществ, – про всех мне говорите. Я люблю знать, что жизнь вокруг продолжается.
Привратница решила, что Остракова, без сомнения, сумасшедшая, но с деньгами-то все в порядке, а деньги привратница любила больше всего на свете, да к тому же она сама была сумасшедшая. За несколько часов Остракова стала еще хитрее, чем когда-то в Москве. К ней пришел муж привратницы – сущий разбойник, куда хуже старой козы, и, получив обещание, что ему дадут еще денег, приделал цепочку к ее входной двери. Завтра он сделает ей «глазок» – тоже за деньги. Привратница пообещала брать ее почту и доставлять ей в строго определенные часы – ровно в одиннадцать утром и в шесть вечером, дав два коротких звонка – тоже за деньги. Открыв маленькое вентиляционное отверстие в уборной и став на стул, Остракова могла при желании заглянуть во двор и увидеть, кто приходит и кто уходит. Она послала на склад записку, что приболела. Она не могла передвинуть двуспальную кровать, но с помощью подушек и пухового одеяла устроила из нее подобие дивана с таким расчетом, чтобы он, как торпеда, был нацелен сквозь открытую дверь гостиной – на входную дверь; ей оставалось только лечь на кровать в сапогах, наставленных на того, кто к ней ворвется, и стрелять поверх них, и если она не прострелит себе ногу, то в первый же момент застигнет пришельца врасплох. Остракова все это продумала. В голове у нее стучало и раздавался настоящий кошачий концерт, в глазах темнело, когда она слишком быстро поворачивала голову; у нее была высокая температура, и она порой почти теряла сознание. Но она все продумала, приняла необходимые меры, и теперь, пока не появится генерал или Волшебник, она снова станет жить как в Москве.
– Ты предоставлена сама себе, старая дура, – произнесла она вслух. – Тебе не на кого надеяться, кроме себя самой, так что держись.
Поставив на пол рядом с кроватью фотографию Гликмана и фотографию Остракова, положив иконку Божьей Матери под одеяло, Остракова приступила к своему первому ночному бдению – она неустанно молилась целому сонму святых, и не в последнюю очередь святому Иосифу, чтобы ей прислали Волшебника, ее избавителя.
«И ни единого послания не отстучали мне по трубам, – думала она. – Даже охранник не ругнулся и не разбудил».
Тянулся все тот же день, и не было ему конца. Расставшись с Михелем, Джордж Смайли какое-то время позволил ногам нести себя неведомо куда – слишком он устал, слишком был взбаламучен, чтобы садиться за руль, однако достаточно соображал, чтобы следить за спиной и делать внезапные повороты, сбивающие со следа возможный «хвост». Растрепанный, с опухшими глазами, он ждал, чтобы мозг пришел в норму, чтобы раскрутилась пружина, державшая его в напряжении в течение этого двадцатичетырехчасового марафона. Он попал на набережную, затем в пивную возле Нортумберленд-авеню – кажется, она называется «Шерлок Холмс», – где он угостил себя большой порцией виски и в смятении подумал, не позвонить ли Стелле: все ли у нее в порядке? Впрочем, это бессмысленно – не может же он звонить каждый вечер и спрашивать, живы ли они с Виллемом, – и он пошел дальше, пока не обнаружил, что находится в Сохо, где в субботний вечер всегда мерзопакостнее обычного. «Обратись к Лейкону, – подумал он. – Попроси охрану для семьи». Но ему достаточно лишь представить себе, какая его ждет сцена, чтобы понять, что это мертворожденная идея. Если Цирк не считал нужным заботиться о Владимире, тем более он не станет заботиться о Виллеме. Да и как ты пристроишь нянек к водителю грузовиков на дальние расстояния? Успокаивало Смайли лишь то, что убийцы Владимира, по-видимому, нашли то, что искали, что ничего другого им не нужно. Да, но эта женщина в Париже – как насчет нее? Как насчет автора двух писем?
«Поезжай домой», – приказал он себе. Дважды он из телефонных будок делал ложные звонки, проверяя, нет ли за ним «хвоста». Затем зашел в тупик и тут же повернул назад, прислушиваясь, не замолкнут ли внезапно шаги, всматриваясь, не отведет ли кто глаз. Он подумывал, не снять ли номер в гостинице. Иной раз он так делал, чтобы спокойно провести ночь. Иной раз его дом становился слишком опасным для него местом. Мелькнула мысль о негативе: пора вскрыть коробку. Обнаружив, что ноги инстинктивно ведут его в Кэмбридж-сёркус, он поспешно повернул на восток и закончил свои скитания в машине. Уверившись, что за ним не следят, он поехал на Бейсуотер-роуд, находящуюся в стороне от тех мест, где он бродил, тем не менее он по-прежнему бросал напряженные взгляды в зеркальце заднего вида. У пакистанца-жестянщика, торговавшего всем на свете, он купил две пластмассовые миски для мытья и лист стекла размером три с половиной дюйма на пять, а в аптеке, находившейся в двух-трех домах оттуда и торговавшей за наличные, – десять листов просмоленной бумаги такого же размера и детский карманный фонарик с космонавтом на ручке и красным фильтром, который прикрывал линзу, как только нажимали на никелированную кнопку. С Бейсуотер-роуд, отнюдь не прямым путем, он подъехал к «Савою» и вошел в отель со стороны набережной. По-прежнему никто за ним не следовал. В мужском гардеробе дежурил все тот же человек, и он даже припомнил шутку, которую тогда отпустил.