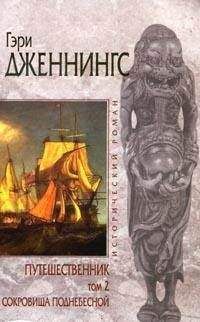Каспийск относится к разряду «промышленных спутников». Здесь трудятся тысячи бакинцев, а местных жителей, работающих в Баку, можно сосчитать по пальцам. Поэтому Рат скорее всего прав. Вот только согласится ли с его решением Шахинов. Вероятностный подход к розыску он органически не выносит, признает лишь абсолютные гарантии.
Расходимся около полуночи. Сержант из дежурной части сообщает, что меня ждут. Выхожу во двор и вижу одиноко стоящий мотоцикл со съежившимся в седле Алешей Наджафовым.
— Ты почему домой не поехал? — удивился я.
— Хотел узнать…
— Ты же замерз как суслик.
— Думал, вы ненадолго. И не холодно, ветра нет, — а у самого зуб на зуб не попадает.
Я предложил ему ночевать у нас, в комнате отдыха для дежурных, но он наотрез отказался.
— Отец без меня спать не ляжет, всю ночь ждать будет..
Отпустить его промерзшего, да еще верхом на мотоцикле я не мог. Он послушно пересел в люльку, укутался брезентом.
Мотоцикл резво бежал по пустынным улицам. Ночь и на самом деле безветренная, тихая. Звезды ярко мерцают на черном фоне. Южное небо: никаких полутонов.
«Каково сейчас родным Кямиля? — приходит на ум. — Им тем более не до сна».
— Где вы гостей разместили?
Алеша сразу догадывается, о ком я спрашиваю.
— В общежитии. Родители приехали, родственники. Много народу приехало. Все в одном селении живут. В больницу пока нельзя, в общежитии ждать будут.
«Ждать в общежитии». Слово какое подходящее.
— Теперь как судьба скажет, — вздыхает Наджафов.
— Ты что, фаталист?
Он на мгновение поворачивается ко мне. «Не понял», — догадываюсь я. Значит, не густо с образованием, а по-русски говорит хорошо, чисто.
— Теперь куда?..
— С Апшеронской на Вторую Поперечную сверните… Там живем.
Улица сплошь из низких мазанок и белых заборов. Из-за тех, что повыше и поновее, доносится угрожающее рычание. Кавказские овчарки-волкодавы, приземистые, широкогрудые, с обрезанными ушами, их держат не для забавы: не приведи господь встретиться с ними без хозяина.
— Здесь, — останавливает меня Алеша у покосившегося заборчика. Через него и дворик и дом как на ладони. Зато летом они наверняка скрыты зеленым шатром: множество деревьев.
— Как в саду живете.
— Это что… Раньше сад был!
— Ты зайди завтра в отдел за мотоциклом.
— Нет, нет… — Алеша расставил руки, словно загораживая мне дорогу. — Теперь я вас не отпущу. Посидим немного, чай выпьем, согреемся. Потом, если надо, поедете.
— Поздно уже…
— Честное слово, обижусь. Очень прошу…
И снова, как в случае с передатчиком, я не смог отказать. Уж очень непосредственно, по-детски звучали его просьбы.
Застекленная веранда ярко освещена. На ней старик, ритмично раскачиваясь на корточках, что-то быстро-быстро бормочет. На нас не обратил никакого внимания.
— Совсем больной отец, — объясняет Алеша.
— Тише, — невольно прошу я.
— Все равно не слышит. Своим делом занят. Часами вот так с кем-то разговаривает.
Но старик услышал, только среагировал чудно. Не оборачиваясь к нам, крикнул:
— Нури! Опять мне мешаешь. Приехал, иди в дом!
— С братом меня путает. Видите, совсем больной. Проходите, пожалуйста.
Стены в комнате увешаны фотографиями. Пока Алеша возится на кухне, я рассматриваю своеобразный семейный альбом. Мужчина в железнодорожной форме, на голове словно папаха из густых курчавых волос, и усы такие же пышные; рядом миловидная женщина с лунообразным лицом, большими круглыми глазами, совсем молоденькая; оба строго в фас, взгляды устремлены куда-то в единую точку, но выражения их абсолютно не соответствуют лицам, а по отношению друг к другу воспринимаются как антиподы: волевое, даже упрямое, у женщины и мягкое, мечтательное — у мужчины. Трое: те же мужчина и женщина с девочкой посередине. Пятеро: прибавилось два карапуза. Двое мальчишек на игрушечных лошадках и в настоящих папахах скачут один за другим. Четверо: отец с матерью и два подростка по бокам. Двое юношей обнялись за плечи; Алеша постарше, у второго еле заметна черная полоска над губой. Нури мне кого-то напоминает. Вглядываюсь в знакомое лицо, пытаясь вспомнить, где я его видел, пока не соображаю: братья похожи, поэтому и возникло мое заблуждение. Правда, эта похожесть не бросается в глаза. Одни и те же черты словно размыты у Алеши и резко очерчены у брата. Еще фотография: Алеша в военной форме. Оно и видно, что в армии служил, по выправке. А девочка исчезла. Неужели несчастье?..
Так и есть. Накрывая на стол, Алеша поясняет:
— Гюли умерла, когда мы были совсем маленькие. От дизентерии. Не было тогда еще этих…
— Антибиотиков? — подсказываю я.
— Да. Потом у соседей сын болел, быстро вылечили. В больницу взяли, много уколов кололи, зато жив остался. А мы с Нуришкой вообще дизентерией не болели. Плохая болезнь, ядовитая. А отец чем больной, даже не знаю. Был совсем не старый, как заболел, стариком стал. Может быть, потом лекарства придумают, сейчас нету. С ним можно разговаривать. Он все понимает, по-своему все понимает. Про мух, например, что говорит? «Мух, — говорит, — все ругают. Неправильно ругают. Муха — санинспектор: прилетит, посмотрит, где чисто, сразу улетает, где грязно, как ни гони, не улетит. Муха дает знать: человек — будь аккуратный, пока грязь не уберешь, буду тебе жужжать: уббери, уббери… Зачем мух ругать, — говорит, — себя надо ругать». Интересно, правда?
Я киваю на прикрытую дверь спальни:
— Достается матери, наверное… — чуть не сказал «с таким мужем», но вовремя исправился: — С тремя мужчинами. Вы-то хоть помогаете?
— Ушла мать.
Сказал, как обиженный щенок взвизгнул.
— Совсем ушла. Пять лет здесь не живет. Нури с ней ушел. Почему не уйти? Отчим хороший человек, щедрый. Меня тоже звали. В Баку живут. Мать обижалась: «Квартира большая, всем места хватит, почему не идешь?» Теперь привыкла, раз-два в месяц к ним еду, не обижается.
Шляпа я, шляпа. Он же только отца упоминал. Все мимо ушей пропустил и с благодушными вопросами лезу.
— Извини, Алеша, не знал я… — и чтобы как-то замять свою бестактность, перевожу разговор на другое: — У вас на комбинате ребята отличные, дружишь с кем-нибудь?
— Со всеми дружу. Больше всех с Измуком. Жалко его, переживает очень. Сам, говорит, его найду. Зачем улыбаетесь? Он твердый парень, сказал — сделает.
Шаркающие шаги; входит старик, несколько секунд смотрит на нас пустым отсутствующим взглядом. Вдруг слезящиеся глаза оживают:
— Оглум[11], никуда не ходи. И гость пускай остается.