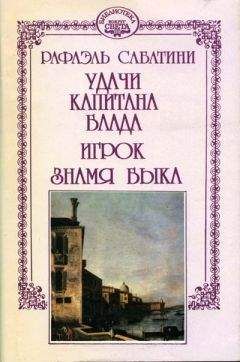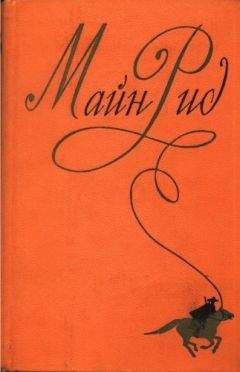Ли Ван была испугана и потрясена этой невиданной кутерьмой.
— Поистине эти люди безумны, — сказала она Каниму.
— Удивляться нечему, — отозвался он. — Золото, которое они ищут, — великая сила. Самая большая на свете.
Долго пробирались они через этот хаос, порожденный алчностью: Каним — внимательный и сосредоточенный, Ли Ван — вялая и безучастная. Она понимала, что тайны чуть было не раскрылись, что они вот-вот раскроются, но первое потрясение утомило ее, и она покорно ждала, когда свершится то, что должно было свершиться. На каждом шагу у нее возникали новые и новые впечатления, и каждое служило глухим толчком, побуждавшим к действию ее измученный мозг. В глубине ее существа рождались созвучные отклики, восстанавливались давно забытые и даже во сне не вспоминавшиеся связи, и все это она сознавала, но равнодушно, без любопытства; и хотя на душе у нее было неспокойно, но не хватало сил на умственное напряжение, необходимое для того, чтобы осмыслить и понять эти переживания. Поэтому она устало плелась вслед за своим господином, терпеливо ожидая того, что непременно — в этом она была уверена — должно было где-то как-то произойти.
Вырвавшись из-под власти человека, ручей, весь грязный и мутный после работы, которую его заставили проделать, наконец вернулся на свой древний проторенный путь и заструился, лениво извиваясь среди полян и перелесков, по долине, расширявшейся к устью. В этих местах золота уже не было, и людям не хотелось тут задерживаться — их манило вдаль. И здесь-то Ли Ван, остановившись на миг, чтобы подогнать палкой Оло, услышала женский смех, нежный и серебристый.
Перед хижиной сидела женщина, белолицая и румяная, как младенец, и весело хохотала в ответ на слова другой женщины, стоявшей в дверях. Заливаясь смехом, она встряхивала шапкой темных мокрых волос, высыхавших под теплой лаской солнца.
На мгновение Ли Ван остановилась как вкопанная. И вдруг ей показалось, будто что-то щелкнуло и ослепительно вспыхнуло в ее сознании — словно разорвалась завеса. И тогда исчезли и женщины перед хижиной, и сама хижина, и высокий ельник, и зубчатые очертания горных хребтов, и Ли Ван увидела в сиянии другого солнца другую женщину, которая тоже расчесывала густые волны черных волос и пела песню. И Ли Ван слушала слова этой песни, и понимала их, и вновь была ребенком. Она была потрясена этим видением, в котором слились все ее прежние беспокойные видения; и вот тени и призраки встали на свои места, и все сделалось ясным, простым и реальным. Множество разных образов теснилось в ее сознании — странные места, деревья, цветы, люди, — и она видела их и узнавала.
— Когда ты была птичкой, малой пташкой, — сказал Каним, устремив на нее горящие глаза,
— Когда я была малой пташкой, — прошептала она так тихо, что он вряд ли услышал, и, склонив голову, стянутую ремнем, снова мерно зашагала по тропе. Но она знала, что солгала.
И как ни странно, все реальное стало теперь казаться ей нереальным. Переход длиной в милю и разбивка лагеря на берегу потока промелькнули как в бреду. Как во сне, она жарила мясо, кормила собак, развязывала вьюки и пришла в себя лишь тогда, когда Каним принялся набрасывать перед нею планы новых странствий.
— Клондайк, — говорил он, — впадает в Юкон, огромную реку; она больше, чем Маккензи, а Маккензи ты знаешь. Итак, мы с тобой спустимся до Форта Юкон. На собаках в зимнее время это будет двадцать снов. Потом мы пойдем вдоль Юкона на запад — это сто или двести снов, не знаю точно. Это очень далеко. И тогда мы подойдем к морю. О море ты ничего не знаешь, так что я расскажу тебе про него. Как озеро обтекает остров, так море обтекает всю землю; все реки впадают в него, и нет ему ни конца ни края. Я видел его у Гудзонова залива, и я должен увидеть его с берегов Аляски. И тогда, Ли Ван, мы с тобой сядем в огромную лодку и поплывем по морю или же пойдем пешком по суше на юг, и так пройдет много сотен снов. А что будет потом, я не знаю; знаю только, что я, Каним-Каноэ, странник и землепроходец!
Она сидела и слушала, и страх вгрызался в ее сердце, когда она думала о том, что обречена затеряться в этих бескрайных пустынях.
— Тяжелый это будет путь, — только и проронила она и смиренно уткнула голову в колени.
Но вдруг ее осенила чудесная мысль — такая, что Ли Ван даже вспыхнула. Она спустилась к потоку и отмыла с лица засохшую глину. Когда рябь на воде улеглась, Ли Ван внимательно всмотрелась в свое отражение. Но солнце и ветер сделали свое дело: кожу ее, обветренную, загорелую, нельзя было и сравнить с детски-нежной кожей той белой женщины. А все-таки это была чудесная мысль, и она продолжала волновать Ли Ван и тогда, когда она юркнула под меховое одеяло и улеглась рядом с мужем.
Она лежала, устремив глаза в синеву неба, выжидая, когда муж уснет первым глубоким сном. Когда он заснул, она медленно и осторожно выползла из-под одеяла, подоткнула его под спящего и выпрямилась. При первом же ее шаге Баш угрожающе заворчал. Ли Ван шепотом успокоила его и оглянулась на мужа. Каним громко храпел. Тогда Ли Ван повернулась и быстро, бесшумно побежала назад по тропе.
Миссис Эвелин Ван-Уик только что собралась лечь в постель. Отягощенная обязанностями, которые возлагало на нее общество, богатство, беспечальное вдовье положение, она отправилась на Север и устроилась в уютной хижине на окраине золотоносного участка. Здесь она при поддержке и содействии своей подруги и компаньонки мисс Миртл Гиддингс играла в опрощение, в жизнь, близкую к природе, и с утонченной непосредственностью отдавалась своему увлечению первобытным.
Она старалась отмежеваться от многих поколений, воспитанных в избранном обществе, и стремилась к земле, от которой оторвались ее предки. Кроме того, она частенько вызывала в себе мысли и желания, которые, по ее мнению, были не чужды людям каменного века, и как раз в эту минуту, убирая волосы на ночь, тешила свое воображение сценами палеолитической любви. Главными декорациями и аксессуарами в этих сценах были пещерные жилища и раздробленные мозговые кости; фигурировали в них также свирепые хищные звери, волосатые мамонты и драки на ножах — грубых, зазубренных, кремневых ножах; но все это порождало блаженные переживания. И вот в тот самый миг, когда Эвелин Ван- Уик бежала под темными сводами дремучего леса, спасаясь от слишком пылкого натиска косолобого, едва прикрытого шкурой поклонника, дверь хижины распахнулась без стука, и на пороге появилась одетая в шкуру дикая, первобытная женщина.
— Боже мой!
Одним прыжком, который сделал бы честь пещерной женщине, мисс Гиддингс отскочила в безопасное место — за стол. Но миссис Ван-Уик не отступила. Заметив, что незнакомка очень взволнованна, она быстро оглянулась и убедилась, что путь к ее койке свободен, а там под подушкой лежал большой кольт.