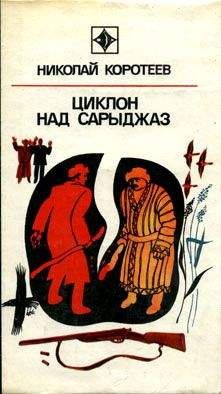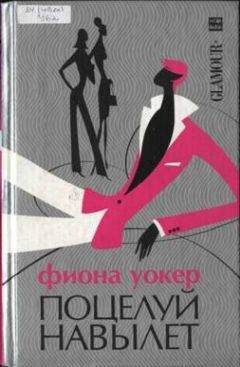— Не я вовсе. Старатели. Они так зимой в речках золотой песок доставали для промывки. Удобнее, чем летом, получалось. И мокнуть не надо. Мороз стенки держит куда прочнее крепи в шурфе. Вот я и подумал… Коль дело до доказательств моей невиновности дошло, — а словам кто поверит? — то лесничего из топи зимой даже сподручнее достать…
Месяца каторжного труда стоило вытаять тело лесничего из болота. Но честное имя Зимогорова было спасено…
Вспомнив об этом страшном месяце, инспектор подумал: «А мне та работа на пользу пошла — курить бросил…»
Он пошел в сторону табора Дисанги.
Старик сидел у костра так же неподвижно, как и перед уходом Семена, будто ни разу и не шелохнулся.
— Ну вот. Скоро и чайком побалуемся, — сказал Семен и тут же спросил: — Когда к Хребтовой пойдем, Дисанги?
— Кабана возьмем и пойдем, однако. Я присмотрел. Много их тут, секачей, в дубняке. Неподалеку. Один матерый. Хватит ему гулять. Молодым простору больше будет.
— Вдвоем сподручнее… — Семен знал свирепый нрав этого мясного зверя, как говаривали добытчики, сам хаживал за кабанами, но вместе со зверовщиками, а не с таежными жителями. Раз подвернулся случай, почему бы и не поохотиться вместе с Дисанги?
— Сподручнее, — согласился удэгеец. — Три дня и ещё день ходил. Хорошо знаю, где он. Думают, стар Дисанги, совсем никуда не годен.
— Я не в помощники к тебе прошусь, Дисанги. Посмотреть хочу, поучиться.
— Стар Дисанги…
Семену не хотелось ни спорить, ни разубеждать старика в вещи очевидной и понятной. Шухов подвесил над огнем чайник и тут приметил, что в костре лежали две грибовидные березовые чаги — нароста. Они старательно тлели, испуская много дыма. Не спрашивая ни о чем Дисанги, Семен понял и взял на заметку, что и ему стоит так же поступать, когда придется зажигать дымокур.
Не разговаривая, они попили очень крепкого, вяжущего во рту чая. После довольно долгой ходьбы Семен почувствовал ставшую для него привычной легкость в движениях и приятное ощущение свежести. Дисанги тоже приободрился и повеселел.
— Пора, — сказал старик, и они тронулись в путь.
Плащ и котомку Семен оставил в таборе, ремень карабина набросил на плечо. Рядом со стариком Шухов выглядел необычайно рослым, статным.
Скоро они вышли из лиственничного бора, миновали распадок, заросший буйной бледно-лиловой леспедецией.
Семен попробовал сосредоточиться на предстоящей охоте, но не вышло. Ведь он толком не знал, как Дисанги будет скрадывать зверя, а спрашивать, как ему думалось, было поздно. Поэтому он просто шел за Дисанги, бесшумно и неторопливо.
Они вошли в дубраву, ярко освещенную отраженным от листвы светом. Казалось, что здесь светлее, чем на открытом месте. Мелькание бликов мешало сосредоточиться, отвлекало.
Дисанги шёл впереди, спокойно держа старую берданку в опущенной руке. Семен справедливо решил, что беспокоиться рано, до выслеженного стариком кабана ещё далеко. Ветер дул им встречь, и то задумывался в дремотном оцепенении, то, словно спохватившись, шумно пробегал в вершинах порывами, достигавшими даже земли.
Терпко и пряно пахли молодая листва и старая дубовая подстилка, мягко пружинившая под ногами.
Во многих местах, особенно под раскидистыми деревьями, виднелись глубокие и мелкие ямы, вырытые кабанами совсем недавно, по-видимому, в поисках прошлогодних желудей.
Дисанги ускорил шаг, но Семен не стал торопиться. Удэгеец ни о чём не предупредил его и скоро ушел довольно далеко вперед, ко взгорку.
Семен остановился посреди широкой поляны, у совсем свежей ямы, взрытой, похоже, могучим секачом час-полтора назад.
Тут раздался выстрел. Вскинув взгляд, Семен не сразу увидел в играющем мерцании светотени фигуру Дисанги. Старик стоял на самом увале около ствола могучего дуба. Удэгеец мог видеть зверя, бывшего по ту сторону увала, Семен — нет. Он различил только, как Дисанги вдруг вскинул руки и прокричал:
— Беги!
Но было уже поздно.
Метрах в пятидесяти, на увале, возник матерый секач. Семену, вероятно, только показалось, что большая, в полчеловечьего роста, туша вепря застыла на миг. Просто потребовалась какая-то доля секунды, чтоб взгляд Семена мог охватить зверя целиком, увидеть двухвершковые, загнутые, очень белые клыки по обеим сторонам от темного глянцевого пятачка; крохотные, сверкнувшие малиновой яростью глазки; прижатые к голове уши и горб вздыбленной шерсти за ними. А вепрь, всхрапывая, уже несся на Семена, стоявшего посреди поляны. Десятипудовая масса кабана обрела рушащую силу тарана.
Из развороченного пулей и черного от грязи бока вывалились сизые кишки. Они волочились по земле, и зверь наступал на них задними копытами, выволакивая из нутра. Клыки, вздыбившаяся бурая щетина на загривке искрились в ослепительном свете дня.
Таранный бег раненого взбешенного вепря был неотвратим, дик и жуток. Зверь стремглав летел прямо на Семена.
«Стой! — приказал себе Семен. — Стой! И — отскочи…»
Никакая сила не заставит секача ни задержаться, ни свернуть. Это инспектор знал. И никто не мог спасти Семена, только он сам, если окажется достаточно расчетливым, быстрым.
Егерь Зимогоров скинул в сенцах котомку, шинель и олочи, быстрым шагом прошел в горницу. Прибранная и наполненная закатным светом, она казалась удивительно просторной. Став около деревянной кроватки, Федор засмотрелся на своего младшенького. Мишутка заметно изменился за две недели. Побелело и стало осмысленней его личико. Малыш двигал, просыпаясь, вскинутыми бровками и шевелил губешками, что придавало его мордашке глубокомысленное выражение. Мишутка открыл глаза и, как почудилось Федору, с интересом уставился на него, обросшего двухнедельной щетиной, нечесаного, пахнущего болотом и кострами. Выпростав из пеленки хрупкие руки, Мишутка задвигал ими и вдруг улыбнулся.
— То-то, я гляжу, Жучка сама не своя, — послышался за спиной голос Марьи. — Хозяин явился.
Федор для убедительности ткнув пальцем в кроватку, сказал жене вместо приветствия:
— Он улыбнулся… мне.
— Полно…
— Я тебе говорю.
Марья стала рядом.
Малыш бессмысленно водил глазенками. Потом, уловив облик матери, суетливо зашевелился и расцвел улыбкой. Марья всплеснула руками, обхватила Федора за плечи:
— Ты посмотри-ка! — но тут же ревниво заметила: — Иди, иди от кроватки. Ещё налюбуешься. Из тайги — и к постельке. В холодной поешь.
— А Сергунька где? — послушно отходя от ребенка, спросил Федор про старшего, приехавшего на каникулы из интерната.