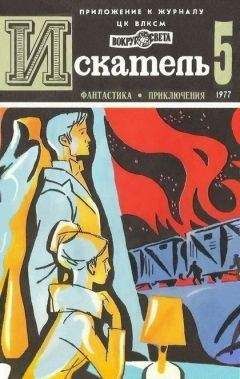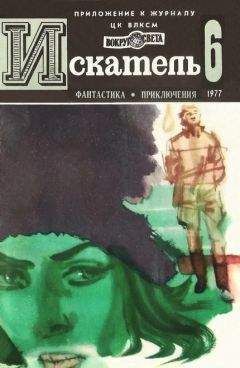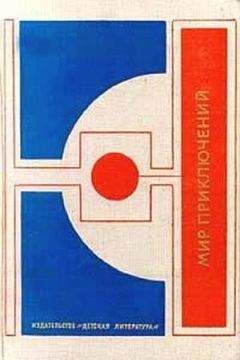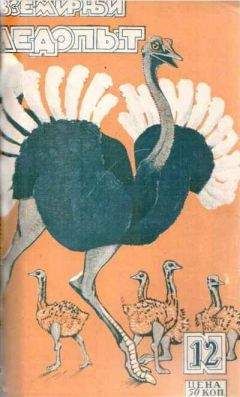— Саша, Саша… — вздохнул Митрофан Евдокимович.
— Да, да… Весьма странен его арест. Связаться не удалось?
— Нет. Он в контрразведке.
— Да-а… — выразительно протянул Буров. — Славный парень. Веселая, открытая душа… Так вот. — И, тяжело вздохнув, Дмитрий Дмитриевич продолжил: — Мы договорились обо всем. Позаботьтесь о моем крестном отце.
— О ком? — не сразу понял Митрофан Евдокимович.
— О Саше.
Митрофан Евдокимович улыбнулся:
— Не беспокойтесь. У контрразведки улик особых нет. Саша — парень крепкий. Попадет ли в городскую тюрьму или Александровский централ — выручим. Есть у нас планчик один.
— Для Зарубина это дело было бы, вероятно, по душе!
— Дмитрий Дмитриевич! — с некоторым напором начал Митрофан Евдокимович. — Из-за провалов в Омске, Новониколаевске и Красноярске у нас совсем нет связи с центром. Их курьеры до нас не доходят. Вероятно, перехватывают. Нам нужны советы, поправки, деньги, наконец!
— Вы со мной сейчас разговариваете так, как и семь месяцев назад не разговаривали, а тогда я был эсером. — Дмитрий Дмитриевич распахнул пиджак, достал из верхнего кармашка жилета пенсне и ловко нацепил его.
Политическая репутация «эсера» Бурова выглядела со стороны безукоризненно. Он еще до начала империалистической войны прочно вошел в актив эсеровской партии. Причем отнюдь не из политиканских соображений, а твердо уверенный, что Сибири далеко до «пролетаризации». Ее основа — крестьянство.
Но уже первые шаги эсеро-меньшевистского «временного правительства» совсем не понравились Бурову. Порка целыми деревнями представителей «основ» социальной революции, требование недоимок еще с царских времен, с 1914 года; открытое заигрывание с иностранцами, призвание их на помощь, высадка японцев во Владивостокском порту и, наконец, благословение мятежа чехословацкого корпуса — подкуп офицеров и открытый обман солдат… Куда дальше?!
— Запамятовал, что у вас был еще один хороший воспитатель, — улыбнулся Митрофан Евдокимович, — Яков Михайлович Свердлов.
— Удивительная личность! — горячо воскликнул Буров, — Я к нему пришел, представился. Он жмет руку, глядит чуточку сбочь: «Что-то не припомню в Иркутской организации большевика Бурова Дмитрия Дмитриевича, присяжного поверенного». — «Так я, Яков Михайлович, эсер». — «Правый, левый?» — спрашивает. Я задумался. Мне всегда казалось, что я левее во многом и многих, но академически правее меня идти было некуда. «В общем, — говорю, — глазунья с зеленым луком».
— Вы никогда не говорили об этом, Дмитрий Дмитриевич.
— Согласитесь, это личные воспоминания. Да… И все-таки я попрошу вас назвать мне имя второго сопровождающего.
— Как вы догадались?
— Профессиональная наблюдательность. Сопровождающие до времени не должны знать друг друга.
— Согласен. Но имя второго и нам неизвестно. Он присоединится к вам в пути, или в Красноярске, или в Новониколаевске.
— Как это — «или», «или»?
— Или в Томске, если наши к тому времени выбьют беляков из Екатеринбурга. А вам придется «спасаться» от красных. — Митрофан Евдокимович с интересом наблюдал за Буровым.
В кабинете нависла тишина, какая бывает только в квартирах каменных провинциальных домов.
Настенные часы в футляре красного дерева мерным приятным баритоном пробили половину девятого. Митрофан Евдокимович поднялся из кресла. Буров шагнул ему навстречу.
— Не боязно, Дмитрий Дмитриевич?
— Волков бояться — в лес не ходить. А Елена просто молодец Потом в Москве мы несколько дней подышим свободно. Хотя особо разгуливать нам тоже нельзя. Не думаю, чтоб у Колчака в столице не нашлось «верных» людей из офицеров. А то и того почище — из эсеров.
Буров застегнул мягкий дорожный пиджак, поправил галстук. В дверь кабинета негромко постучали.
— Елена! Входи, входи.
Плавной быстрой походкой в кабинет вошла жена Дмитрия Дмитриевича. Миниатюрная женщина с высокой прической, которая не прибавляла ей роста, Елена Алексеевна была одета в серое дорожное платье с широким поясом.
— Наговорились? Не помешала? — спросила она и, забравшись с ногами в широкое кожаное кресло, проговорила: — Но вы сами предупредили — в половине девятого чтоб духу вашего не было, Митрофан Евдокимович.
Митрофан Евдокимович подошел к Елене Алексеевне, взял ее крошечную, но сильную руку в свою большую ладонь.
— Будьте осторожны, — сказал Митрофан Евдокимович. — Если не случится чего-либо непредвиденного.
— Думаю, что нет. — Елена Алексеевна тряхнула головой, — Когда армия наступает или готовится к наступлению, тыл становится беспечным. Офицеры пьют горькую, а подрядчики вроде нашего подзащитного, настолько распоясываются, что воруют уже миллионами.
— Что делать? — всплеснул руками Дмитрий Дмитриевич. — Раз уж он хочет, чтобы его адвокатом был именно я… То мое дело — затянуть следствие до морковкиного заговенья. Уверен, местные власти хотят того же. У нас с Еленой Алексеевной будет достаточно времени на хорошую охоту.
Со стороны гостиной в дверь кабинета снова постучали. Елена Алексеевна мягко поднялась с кресла и, очутившись у двери, проскользнула в нее. И тотчас вернулась в кабинет. У нее в руках был футляр, в каких держат драгоценности. Елена Алексеевна открыла его. В углублении на шелковой подкладке лежал миниатюрный браунинг с перламутровой инкрустацией.
— Прелестная вещица! — не удержалась Бурова.
— Чересчур заметная. Зарубин перестарался. Возьмите на всякий случай вот этот. — И Митрофан Евдокимович достал из-за пазухи размером чуть побольше, простенький никелированный браунинг.
Взяв в руки пистолет с перламутровой инкрустацией. Буров задумчиво проговорил:
— Согласитесь, он прекрасен, как поцелуй Иуды.
— Дмитрий, дорогой, ты не на процессе!
— Профессиональная привычка! — рассмеялся Буров. Потом он достал из тайника, из-под каминной плиты несколько мелко исписанных листков бумаги, передал их Митрофану Евдокимовичу.
— Вот документы. Теперь они здесь. — Дмитрий Дмитриевич прижал ладонь ко лбу. — Эти бумаги можно сжечь. Прошу устроить мне экзамен. Затем приступим к аутодафе.
— Вы стали очень осторожны, Дмитрий Дмитриевич, — сказал Митрофан Евдокимович, когда убедился, что Буров не ошибся ни в единой цифре, не пропустил ни одного факта.
— Приобретаю привычки профессионального революционера, — ответил Буров, помешивая щипцами ярко полыхавшие листки.
— К дому! — бросил подполковник Чухновский кучеру. Мягко качнувшись, сани покатились по обледенелой мостовой. В душе Чухновского бушевало смятение.