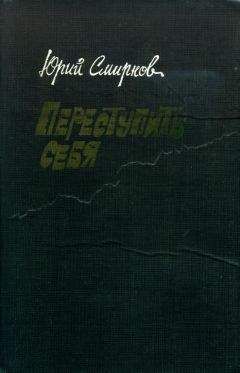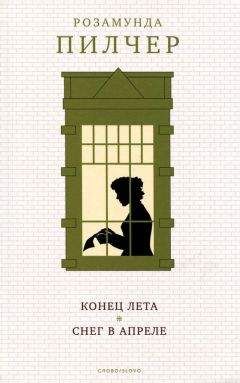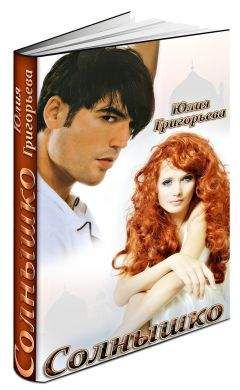Но без того, что знал и умел в степном мире Басанг, русский в степи погибнет. И Басанг, уверенно подождав, сколько было положено (мускулы спины и затылка все-таки конвульсивно напряглись), сказал Волку то, чего не говорил ни одному из своих сообщников. В Эргенях, сказал Басанг, есть у него тайник с оружием и запасом продуктов, вдвоем они проживут там до весны, а весной… Русский молча — он вообще мало говорил — положил ему руку на плечо. Басанг заседлал лошадей Ерофеева, себе взял похуже…
От зимовья, где остановились и сейчас уже, наверное, легли спать оперативники, они пошли на юго-запад, почти в строго обратную от Эргеней сторону. Басанг долго и усердно петлял, раза три они с Николой расходились и затем по оголенным от снега хребтам барханов сходились вновь. Наконец поскакали на север к зимовью, которое знал Басанг и в котором они надеялись поесть и поспать в тепле за то время, пока опергруппа, никогда не продолжавшая погоню ночью, разомкнет их следы и доберется туда. Конь под Николой всхрапывал, два запасных, слева и справа, испуганно жались к нему, и Никола, не понимая в чем дело и оберегая ноги, наотмашь бил кулаком по их мордам. Басанг по-прежнему скакал впереди, иногда гортанно смеялся чему-то, иногда что-то выкрикивал, и кони его были спокойны.
На дальний бархан вылезла багровая ущербная луна и по-азиатски лениво и надолго уселась на нем. Снега повлажнели, выдавили из себя сукровицу, и она широкой рекой заструилась от луны к всадникам. И ту дорогу пересекли летучие тени… Никола глянул влево и назад — и там тоже увидел их и понял, почему храпят и бьются на скаку его кони. Он крикнул, молчаливое волчье кольцо разжалось и сжалось, оно стало пульсировать в такт его возгласам, а кони, ободренные голосом хозяина, пошли ровнее. Как беспредельна, как мертва степь под февральскими снегами, как жестоко обнажены в ней жизнь и смерть! Еще сильны Никола и Басанг, и вооружены они, а стая уже почуяла в них ослабевших и будет терпеливо идти за ними сегодня, завтра, до конца…
Басанг вышел точно на зимовье. Слабый огонек светился из единственного окошка землянки, он потух сразу же, как только залаяли в кошаре три запертых вместе с овцами сторожевых пса. И тут же выстрел потряс степь. Пуля задела каменную горловину колодца, срикошетировала и ушла в ночь. Никола с тоской подумал, что вот оно — благословенное тепло, но не достанешь, не войдешь. Он почти физически ощущал, как холод проникает в разбитое окно землянки (оно парило), и, полузамерзший, страдал от этого, а еще от того, что придется тратить драгоценное время, чтобы убить строптивого чабана. Черно и злобно пожалел он, что хватал за руку сначала Зургана, а затем и Басанга, когда те истязали женщин, стариков и детей. Он втолковывал им, что надо воевать только с властью, с государством, но дикие бандиты оказались умнее его, непреложно зная, что государство — это все эти люди, хар яста, черная кость.
Хлев для скотины стоял за глухой стеной землянки, не под выстрелом, и они могли завести туда лошадей, которых от волков нельзя было оставлять без присмотра и на минуту. Развязав себе руки, попытались достать чабана пулей. Не тут-то было! Тот стрелял редко, с точным расчетом, по всему чувствовалось, что винтовка — в умелых руках бывшего солдата. Меж выстрелами Никола уловил женский голос и детские голоса…
— Эй, ты! — крикнул он. — Не стреляй! Переночуем — уйдем, не тронув.
— Гад ты ползучий! — отвечал ему чабан. — А еще по-русски баишь… Никола Волк, што ли? Было говорено… Покажись-ка!
— Детей бы своих пожалел, — продолжал увещевать Никола, но увещевал из-за угла сарая.
— Пожалею, как тебя достану, иуда, — ответил чабан и чуть не достал Николу, прошив пулей камышовые стенки сарая.
Басанг тоже стрелял из винтовки, его пули тоже, видимо, прошивали стены чабанского жилья, но так можно было жечь патроны долго, а их мало. Поняв бесполезность лобовых попыток, Никола приказал отойти к хлеву. Басанг подчинился, вкрадчиво улыбаясь: теперь не он был главарем банды и как выкурить чабана, уже не его печаль. Тогда Никола достал, словно от сердца оторвал, последнюю гранату, вынул из нагрудного кармана запал — и отдал ему. Крыша зимовья всего метра на полтора подымалась над землей, Басанг мягко, по-кошачьи, вспрыгнул на нее… Жили чабаны в землянках, землей же и утеплялись; по локоть ее было насыпано на крыше. А чтобы не выдули ветры, не вымыли ливни, была засеяна крыша овсюгом, шелюгой и иными устойчивыми на корень травами. И ни Михаил Золотов, ни жена его, ни две малые дочки-погодки даже не почувствовали, как их смертынька шагнула к трубе… Луна скрылась, но в слабом свете, который еще хранила ночь, Никола видел, как Басанг отвел руку, чтобы опустить гранату в черное жерло. И — не успел опустить: две автоматные очереди скрестились на нем, и граната взорвалась в его руках. Николу толкнуло взрывной волной, он упал, вскочил, последние, спрятанные на донышке души силы вскипели в нем, — и он, пригибаясь, побежал.
А Михаил Золотов открыл дверь землянки и, крутоплечий, сильный, с мученически-счастливым лицом, облапил первого же, кто подсунулся к нему, а это была Катерина. И она счастливо рассмеялась.
— Мать честная! — ахнул изумленно Золотов. — Катерина! Ты? Н-ну, Катерина… А развалюха-то моя, а? Выдержала, шалавочка… Прямо дзот! Катерина… Век тебе не забуду, Катерина…
Он обнимал Виктора, Джакупа, чуть не задушил в объятиях Романа Мациборко, тонкого и худенького даже в полушубке. Простоволосая, плача и смеясь, выбежала жена Михаила, целовала Катерину, оперативников, восклицала бессвязно. А те, на кого так неожиданно и открыто пала радость спасенных, вдруг поняли, что вот и пришел конец их страде, их мучениям, и им стало легко, они тоже заговорили бессвязно, утешая плачущих женщин, смеясь освобождение И эта радость человеческая, и смех, и участливое, исторгнутое из сердца слово, и эти теплые слезы поднялись тогда над снегами и поплыли в ночь, к ледяным звездам. И там, в черной беспредельности, никогда не погаснуть им, люди, усталые вы мои, милые вы мои!
Джакуп пересчитал в хлеву бандитских лошадей. Все шесть на месте, и он успокоенно приказал располагаться на ночевку. Он знал непреложно: тот, кто в такую пору уйдет в степь без коня, или вернется, или погибнет.
— Есть на земле справедливость, — сказал Роман Мациборко, когда опергруппа, переночевав, вышла по следам на место, где замерз Никола Волк. Его обыскали, вынули из карманов полушубка пистолет, паспорт на имя Баринова Геннадия Михайловича… Джакуп, сидя в седле, положил на планшетку лист бумаги и стал писать акт с точными приметами бандита.