Мы нервничали, спорили, ругались. С руководящими товарищами нередко возникали разговоры примерно в таком духе:
— Ну, как у вас тут взаимоотношения с Китаем?
— Требуют охотников. До оскорблений доходит: «Моя говорить давай охотников, а твоя все равно как дурак, ничего не понимае…»
— Больное это место у них. Доход от охоты — бизнес местной администрации. А казаки как?
— Охотно идут. Хотя часть пушнины и отбирают китайские начальники, но казакам тоже остается.
— Ну, пусть идут. Пропускайте.
— Непонятно. Мы должны пропускать казаков в это белогвардейское гнездо?!
— Не о «гнезде» речь. Не передергивайте! Я говорю — на охоту пропускать, организованно, по требованию китайской администрации…
— Но есть и такие, которые ходят в Китай, как в школу антисоветизма. И, как из школы, возвращаются с конспектами в виде антисоветских листовок и воззваний…
— Таких не пускать. Не давать таким пропусков…
— До чего же все просто! Войди в каждого, как дух святой, и отдели неверных от верных и добрым голубком оберегай избранников своих…
Но можно ведь и обидеть кого-то напрасным подозрением, можно и антисоветчика не разглядеть. Да и вообще наши люди, перейдя границу, будут находиться в стане врага длинные зимние недели. И может случиться, что казак уйдет туда нашим, а вернется «с мозгами набекрень…»
Давили на нас и местные представители Наркомвнешторга:
— Жаловаться будем. О пушнине не думаете, товарищи.
Думали мы и о пушнине; объясняя ее значение, не раз втолковывали нам, что для выполнения пятилетки нужна активная торговля, на мировой рынок надо выбрасывать все, до мелочей. И это даст стране заводы, станки, редкие металлы, и кабель, и еще валюту для оплаты иностранных специалистов. А пушнина вовсе не мелочь!
И все же у нас была своя, только нам доверенная задача: охрана неприкосновенности границ, обеспечение революционного порядка в приграничной зоне.
По малозаметным признакам мы улавливали усиление вражеской активности. Диверсии по нашим тыловым объектам и контрабандный увоз золота в Китай оставались, но главное острие теперь было нацелено на станицы и поселки. Это грозило расширением фронта борьбы.
Кое-что мы уже знали. Кое о чем догадывались, но многое оставалось в тени.
Земля уже сухая была, по-весеннему голая, и, легко подпрыгивая, мяч покатился далеко в аут. Следя, куда его черти понесли, игроки заметили трех всадников, устало продвигающихся к воротам. Всадники тут не редкость и уставшие кони не в диковинку. Но эти вселили настороженность. В предвкушении отдыха и корма, кони к воротам идут бодро. Даже самые уставшие голову высоко держат и трензелями позванивают. И грязных коней к ночлегу не приводят. За километр или два, где водоемы встречаются, всадники остановку делают. Все у коня почистят — ноги и между ними, копыта, подковы проверят и стрелки. Подпруги отпустят, стремена приберут, чтобы коня не беспокоили, мундштуки снимут и трензеля. Дальше, до самого ночлега, — только шагом на поводу, чтобы сердце успокоилось и дыхание до нормы довести. И себя всадник не забудет, своего внешнего вида.
Не так тут было. Кони изнуренные и грязные, и шли они, пошатываясь, как и всадники, еле передвигая ноги. Настороженность перешла в тревогу: что случилось? В чем дело? Игра расстроилась, и за мячом уже никто не следил. Командиры подбежали к воротам и остановились у коней. Женщины сиротливо сгрудились на дальнем краю площадки. Жалели они, что игра прервалась и пропал тот чудесный час, когда перед началом ночной части рабочих суток на площадке собирались все командиры, члены семей и свободные от службы пограничники. Не так уж много веселья видали наши жены в таежных поселках, чтобы недооценивать эти очень милые часы.
Молодые они, старшей не минуло двадцати пяти, но многие тревоги уже испытали. И знали они: к тем воротам их сейчас не пустят и никто не скажет, что случилось. И муж ничего не скажет, разве только по телефону позвонит:
— Не жди меня сегодня. И завтра тоже. Скоро я. Словом, жди письма…
Так годами. И правило такое выработалось: о служебном говорят только на службе!
Немало тревог выпадало на долю наших женщин, и держались они мужественно, проявляя находчивость и смекалку. Возвращается муж после внезапной долгой разлуки, и к ночи, когда обо всем поговорено, жена таинственно мурлычет и шепчет:
— Знала я, где ты был. С самого начала знала. Все до точности. В тайге ты был. У трех хребтов…
— Господи! Кто тебе такое наплел?
— Ничего не наплел! Все верно узнала. Сама. Хочешь, расскажу, как узнала. Только ты слово дай, что ругать людей не будешь. Обманула я их, опутала. Ну, дай слово!
Слово такое давать можно. Ничего в нем нету особенного. Это ж мое слово, и я ему хозяин. Даю его, когда-она так пристает, и обратно отберу, когда надобность в такой моей доброте минует.
— Обещаю. Валяй!
— Пошла я к Осипову, писарю. Такой дурехой прикинулась, до ужасти: «Почта еще не ушла? Муж позвонил, чтоб белье ему послала. Я еще успею? Мигом я». Посмотрел он на меня удивленно и говорит: «Не может такого быть, чтобы он позвонил! Нету туда телефона и почта не ходит». Смекнул потом, что проговорился, и начал вилять и изворачиваться. Но мне больше ничего и не требовалось. Ты вниз по реке поехал, и раз ты там, куда нет телефона и куда почту не возят, значит — в тайге. Понял теперь? Запомни только, ты слово дал…
Тут бы и сказать ей, что тому слову я хозяин и сейчас его обратно беру. Только не напугаешь ее такой угрозой. Знает она, никому муж ничего не скажет. И он понимает, не будет тут ни ругани, ни разговора.
Может, такая слабость на него тут внезапно обрушилась? А может, и другое вовсе? Вспомнил ее одиночество и волнения в долгие дни и ночи: вернется ли муж сегодня, и вернется ли вообще? То одиночество, которое выдавливало и такие песни:
…сторожила я в землянке семафорный аппарат…
Наконец, лошади подошли к воротам. Высокий буланый опустился на колени и повалился на правый бок. Силился поднять голову. Убедиться ли, что добежал, все в точности выполнил? Или на прощание уже с нежаркими лучами весеннего, последнего солнца? Сил уже не хватило у буланого. Голова не поднималась, и конь успокоился, вытянув шею. Свое он добежал…
Другие два еще стояли, медленно и тяжело покачиваясь Из ноздрей низко опущенных голов вытекали тонкие красноватые струйки. И тут тоже все…
Пограничники, уставшие и замученные, даже постаревшие, как бы опасаясь, что их до конца не выслушают, опустят важное или не как надо поймут, перебивая один другого, твердили:



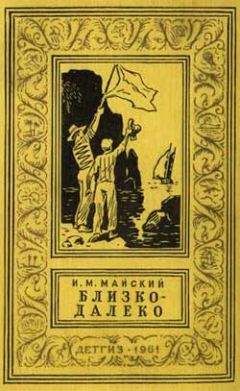
![Петр Петров - Борель. Золото [сборник]](https://cdn.my-library.info/books/7610/7610.jpg)
