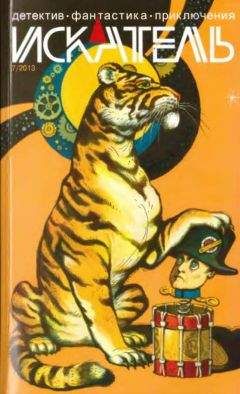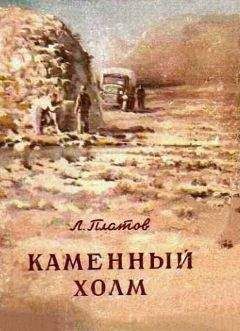Меж тем здоровье императора постепенно ухудшалось. Последний приступ случился с ним пятого мая 1821 года, во второй половине дня. Я зашел к нему.
Наполеон спал. Уголки его рта были скорбно опущены, и руки — серые, с перебинтованными после кровопускания кистями — безжизненно лежали поверх одеяла. Почему-то он напомнил мне моего отца, хотя сходства не было ни малейшего. Батюшка мой умирал тяжело: то кричал от боли, то требовал вина, то порывался сесть на несуществующего коня и мчаться куда-то… И я едва удерживал его в постели.
Бонапарт лежал спокойно. Если бы не прерывистое дыхание, я бы решил, что он умер во сне. На тумбочке у изголовья кровати стоял высокий бокал с оршадом — любимым напитком императора. Маленькая аптекарская скляночка с ядом была у меня в руке — я пристально посмотрел на бокал (всего один шаг, черт возьми, всего один), потом зачем-то перевел взгляд на гобелен, висевший над императорской постелью. И мне показалось вдруг, что желтый тигр на нем усмехнулся в усы…
— Кто здесь?
Я вздрогнул и чуть не выронил склянку. Наполеон открыл глаза, приподнял голову и посмотрел на меня мутным взглядом.
— Все-таки я видел вас раньше, еще до прибытия на Святую Елену. Странно: у меня прекрасная зрительная память, но ваше лицо… Давно вы носите бороду?
— Уже много лет, ваше величество, — сказал я чистую правду, внутренне содрогнувшись: что, если он прикажет мне немедленно побриться?
— У вас очень красивая дочь, сударь.
— Благодарю, ваше величество, — с трудом произнес я.
— Представьте, она тоже мне кого-то напоминает, но кого? Все-таки память моя стала ни к черту. К тому же эти боли… Они терзают меня круглыми сутками…
Снова началась гроза. За окном ударило, створки распахнулись, впуская в комнату сырость (впрочем, здесь всегда было сыро — я обратил внимание, что джунгли, изображенные на гобелене, будто стали темнее). Я хотел закрыть окно, но император остановил меня:
— Не нужно. Пусть будет так… Это хорошо, когда ветер. Ветер примчит сюда корабль из Франции, и меня спасут… Массена, Дезе, Ней — мои верные маршалы, я уже слышу их… Слышу их конницу…
Речь его утратила связность. Бонапарт снова ускользал от меня — сейчас он был далеко, там, где снега Альп закрывали дорогу к Милану, и сквозь них нужно было пробиваться…Никогда не подумал бы, что мой. собственный последний шаг — к моей собственной победе — будет столь банально выглядеть. Собственно, даже шага мне не понадобилось: я просто протянул руку и высыпал содержимое склянки в бокал с оршадом. Тигр на гобелене подмигнул мне зеленым глазом: молодец, с врагами надо расправляться именно так, без лишней помпы. Выждать, вытерпеть в засаде, поймать момент — и завершить дело одним прыжком…
Я уже собирался уходить, когда за окном вновь полыхнула молния. Комната на миг словно вспыхнула голубоватым светом, тени стали резче, я последний раз взглянул належавшего Бонапарта — и увидел то, чего раньше не замечал.
Медальон.
Золотой трилистник с ажурным навершием и ярко-зеленым изумрудом на крышке. Он лежал на атласном покрывале (видимо, император держал его в руке, но вот ладонь разжалась, и медальон выскользнул) и целеустремленно сводил меня с ума. Я неосознанно протянул к нему руку. Осторожно — так, что император не проснулся — взял его в руку и нажал на крошечный выступ на одной из граней золотого корпуса. Изумрудная крышка откинулась, обнажив потайное нутро…
Юная принцесса Жанна-Луиза де Конде смотрела на меня с миниатюрного портрета, и я подумал, что Жан-Батист Огюстен не зря считается одним из лучших художников Франции. Портрет был прекрасен. Мне даже почудилось, будто я ощущаю на лице ветер с океана…
Я нашел ее в маленькой белой часовне возле кладбища — той, что напомнила Бонапарту его родной Аяччо. Гроза продолжала бущевать, я почти ничего не видел и отыскал дверь практически на ощупь. И ввалился внутрь. Тишина, полумрак, вспышки молний в двух высоких окнах с витражами и слабая неверная свеча впереди, перед деревянным распятием. Свеча в женской руке… Я медленно подошел и спросил:
— Жанна, что ты здесь делаешь?
— Молюсь, — скорее понял я, чем расслышал. — Я прошу Господа, чтобы Он сохранил ему жизнь.
Каменный пол раскачивался, словно палуба корабля. Неудивительно при такой грозе. Я упал на колени рядом с дочерью и коснулся ее лица. Щека ее была влажной — то ли от дождя, то ли от слез…
— Зачем ты отдала Бонапарту свой медальон?
Жанна подняла на меня глаза, и я увидел отражение свечи в ее зрачках.
— Я люблю его, батюшка. И он любит меня. Он объяснился мне…
— Давно? — глухо спросил я.
— В тот день, когда Огюстен рисовал мой портрет, помнишь? Его невозможно не любить. Он прекрасен… Все в нем прекрасно. Я любила бы его, если бы он был простым матросом, или крестьянином, или каторжником… Мне все равно.
Каторжник. Каторжник Наполеон Бонапарт, любовник ее высочества принцессы Жанны-Луизы де Конде де Бурбон, не подозревающей, что она — принцесса…
— Почему ты смеешься, батюшка?
Я смеюсь? Черт, я и вправду смеялся. Хохотал так, что тело сгибало пополам и из глаз катились крупные слезы.
— Ты смеешься потому, что я, простолюдинка, посмела полюбить императора?
— Ты простолюдинка? — выдавил я сквозь смех, как две капли воды похожий на истерику. — Твоим настоящим отцом был герцог Энгиенский принц Антуан де Конде. А матерью — графиня Шарлотта де Роан. Оба они были убиты по приказу Наполеона Бонапарта.
— Герцог? — непонимающе переспросила Жанна-Луиза.
— Да. В твоих жилах течет кровь Бурбонов, моя девочка. И ты полюбила чудовище, повинное в смерти твоей семьи. Я служил твоему отцу в Эттенхейме. И вынес тебя на руках через потайной ход, когда на дом напали солдаты Наполеона. Они должны были арестовать всех, кто находился в усадьбе, — всех, понимаешь? И тебя в том числе.
Она все еще не понимала меня. Нет, не так: она меня попросту не слышала. Ибо ее мысли были заняты чем-то иным, более важным.
— Что ты намерен сделать с ним? Ты хочешь его убить?!
— Я уже убил его, — сказал я. — Час назад я дал ему смертельную дозу мышьяка.
— Что?!
Моя девочка, моя принцесса, отшатнулась от меня, как от больного проказой. Потом вдруг порывисто вскочила на ноги.
— Господи, какая же я дура… Нужно срочно бежать туда…
— Куда?
— В Лонгвуд. Может быть, еще не поздно… — Она повернула ко мне свое искаженное лицо. — Куда ты подсыпал яд? В еду? В вино? Говори же!
Я отрицательно покачал головой и попытался прижать Жанну к себе — я всегда делал так, когда в детстве она спотыкалась и разбивала коленки. Жанна вырвалась и стремглав бросилась к выходу из часовни.