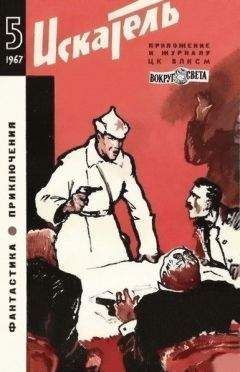Едва ли кто-нибудь из участников или зрителей импровизированного парада анализировал тогда свои мысли и чувства. Просто каждый из нас понимал, что ему в эти минуты хорошо, очень хорошо, так хорошо, как давно уже не было, но как должно было быть и обязательно будет всегда на нашей земле.
Вечером того же дня досыта напоенный горючим «даймлер» снова пылил по степи. Воротившиеся к сумеркам разведчики подтвердили «сводку» Трофима Мефодьевича — ни патрулей гитлеровцев, ни даже следов коротких встречных схваток боевых охранений в направлении Кизляра не было. И потому Самусев рискнул посадить в кузов всю свою команду.
На третий день, 17 сентября 1942 года, мы соединились со своими частями в районе Кизляра. Для бойцов нашей группы закончились шесть дней неожиданного рейда по тылам противника. Впереди оставалось 964 дня Великой Отечественной войны.
Литературная запись Ивана ВОРОНИНА
Константин АЛТАЙСКИЙ
РАКЕТА[2]
Рисунки Г. МАКАРОВА
Свистели суслики. Ныли мозоли. Был кирпичный чай, и не было сахару. Седой, пепельно-серебряный ковыль расстилался вокруг, и ломило глаза от сверкающего солнца.
Каменные бабы, освистанные ветрами тысячелетий, смотрели на нас с кургана удивленно и непонимающе.
Что могла понять древняя каменная баба в славном походе на Врангеля?
В этот жаркий день в наш отряд явился хлопец лет двенадцати-тринадцати и заявил:
— Как хотите, а я останусь у вас.
У хлопца не было вовсе бровей, зато был маленький вздернутый нос и волосы цвета льна с таким странным вихром, словно хлопца лизнула корова шершавым ласковым языком.
Мы дали мальчугану краюху хлеба и напоили его чаем без сахара.
Обжигаясь чаем и шмыгая носом, хлопец рассказывал:
— Матка умерла, когда маленький был. Не помню матки. Отца белые повесили на воротах, а хату сожгли.
— За что отца порешили?
— Красноармейцам дорогу указал к белому штабу.
За чаем без сахара мы усыновили хлопца. Назвался он Санькой. Фамилию не спросили.
Санька пришелся ко двору. Он был отменно весел, как зяблик. Веселость, удаль и беззаботность всегда скрашивают походы. Саньку полюбили.
Мы двигались к Перекопу, не зная, что взятие его будет греметь в веках больше, чем Бородино и Аустерлиц.
Командовал фронтом Фрунзе, большевик, выросший в подполье текстильной Шуи. Фрунзе был прост и храбр. За храбрость его уважали, за простоту любили.
Еще были в нем широкий кругозор вождя и большевистская воля.
Санька наш, захлебываясь, рассказывал о Фрунзе:
— Идет это он, навстречу красноармеец. «Куда, — говорит, — товарищ?» Взглянул красноармеец, видит — перед ним Фрунзе. Испугался. Лицо сделалось как все равно алебастр. «Простите, — говорит, — товарищ Фрунзе. Я больше не буду». — «Чего не будешь-то?» — «С разведки убегать». Красноармейца-то, молодого крестьянского парня, первый раз в разведку послали, он с непривычки и струсил. Фрунзе покачал головой и говорит: «Идем, брат, вместе». Так разведку и провели вдвоем — красноармеец и Фрунзе.
Саньку очень огорчало то обстоятельство, что он Фрунзе не видел ни разу.
— Хоть бы в щелочку посмотреть на него! — мечтал Санька. — Хоть бы краешком глаза!
Кашевар наш, весельчак и человек с подковыркой, подмигивая, говорил Саньке:
— Тебе Михаила Васильевича Фрунзе не увидеть, как ушей своих. Он только героям показывается.
Санька сопел, как еж, и отходил от кашевара расстроенный.
Мы неуклонно шли к Перекопу. Свистели в степи суслики. Свистели над степью пули.
У одной степной станицы, название которой теперь переименовано, стоял отряд штабс-капитана Уткина.
На фоне разлагавшейся врангелевской армии уткинский отряд выделялся своей дисциплинированностью и боеспособностью.
Дьявольски хорошо разместил Уткин своих пулеметчиков.
Мы изучили работу двух пулеметов на плоской высокой крыше. Они срывали все наши планы. Стоило нам чуть-чуть двинуться вперед, как с крыши начинался шалый ураганный огонь. Свинцовый ливень извергался на нас.
Мы дважды ходили в атаку и дважды отступали с потерями.
Был назначен день третьей атаки. Станица должна была быть нашей.
Разведчик Миша Чечевицын, парень отчаянный и изобретательный, вражеский кабель полевого телефона соединил с нашим.
Мы подслушали невеселые вести. Вечером с востока в станицу должно было прийти сильное подкрепление.
Положение наше было обоюдоострым. Идти в атаку днем — значит устлать подступы станицы трупами.
Идти в атаку ночью — допустить прибытие подкрепления.
Трудно установить, в чьей светлой башке возник этот чудесный план.
Впрочем, это неважно. Важно, что план был принят и положен в основу операции.
С величайшим старанием, высунув язык, склонив курчавую голову набок, наш каллиграф и борзописец Кучко с час пыхтел, подделывая почерк штабс-капитана Уткина. На счастье, у нас была перехвачена маленькая записка Уткина. Под уткинский почерк работал Кучко.
И сработал! Кажется, покажи мы кучковскую записку самому его благородию господину штабс-капитану, крякнул бы Уткин, потрогал бы себя за ус и признал записку своею.
Дали Саньке записку, ракету, сухарей, флягу воды и попрощались на всякий случай…
Санька растаял в степи, как махорочный дым. А мы стали чистить винтовки да писать домой письма. У некоторых это были последние письма.
Санька идет, а думы у него невеселые. Надо пробраться в станицу. А как проберешься?
Еще вечером — туда-сюда, а днем трудно. Дозор!
Километра за четыре от своей части повстречал Санька автомобиль. Черный, лаковый, как огромный жук, автомобиль летел, словно не касаясь земли, по степной дороге, вздымая голубоватую струйку пыли.
Вдруг выстрел!
Автомобиль остановился. Шофер быстро слез и стал возиться над задним колесом. Оказалось — не выстрел, а шина лопнула.
В автомобиле сидели двое. Один молодой, бритый, долговязый, с глазами голубыми и холодными. Другой широкоплечий, немного сутулый, с бородкой, с темными выразительными глазами.
Увидел человек с бородкой Саньку — улыбнулся. Светло, тепло, хорошо так улыбнулся. Словно не чужой это, в первый раз встреченный человек, а родной. Вроде отца или брата.