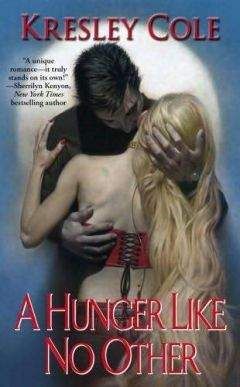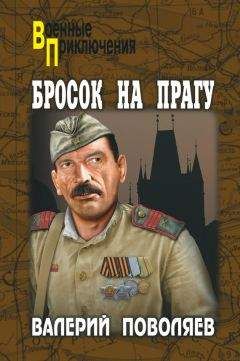Ознакомительная версия.
Пальцами Пургин прощупал дно – насколько смог дотянуться, настолько и прощупал – было мелко, дельфину было опасно подплывать: он мог пораниться, ободраться, ушибиться, но дельфин, рискуя собой, подплывал к Пургину – ему было важно чувствовать рядом человека, которому он поверил.
Всякая травма, всякая кровь и ссадина оставляют о себе память, обжегшийся кипятком человек дует потом не только на воду, дует даже на водку; дельфиненок, пострадавший на этом месте, не должен был уже возвращаться, а он возвращался, не боясь памяти, новых ушибов и ран, – он верил человеку; он знал, что в случае беды Пургин снова спасет его.
Это простое открытие растрогало Пургина, он скатал еще один шарик, сунул в рот дельфиненку, а следующий шарик просто швырнул в темный воздух – тот растворился в пространстве, стал невидимым, но у близорукого дельфиненка зрение оказалось вовсе неблизоруким; напрасно Пургин считал его близоруким, дельфиненок все прекрасно видел и в темноте засекал всякий предмет, кинулся к шарику и по-собачьи ловко и точно взял его.
– Молодец! – Пургин не удержался, захлопал в ладони.
– По части шоколада?
Они около часа провели на берегу, и вместе с ними был дельфиненок, крутился бесом в воде, чмокал, фыркал, хрюкая, издавал долгие сиплые звуки, взбивал буруны и ловко рассекал их телом. Вода светилась от мелких шевелящихся точек, свет шел изнутри, из глубины и рождал необъяснимое сложное ощущение, в котором было и тревога, и радость, и тепло, и в ту же пору что-то далекое, опасное, вызывающее холод.
Берег они покинули с сожалением, пошли пить чай к Рите, но у той в комнате соседка уже пила чай с усатым бравым моряком, сердито играющим витыми мышцами-бульонками и бочкой выпячивающим грудь, усы у моряка от силовой игры шевелились, как у таракана, и сам он был похож на крупного запечного прусака, Пургину стало неприятно, он молча и решительно обнял Риту и увлек ее за собой. Дверь комнаты прикрыл тихо, чтобы ни у кого из соседей не возникло желания проверить, что же там происходит? Не испытания ли противопехотных мин?
– Пойдем ко мне, – сказал он. – Орденоносцы – люди одинокие, государство уважает это их качество. Я живу один.
Рита молча качнула головой.
– У меня тоже есть чай. Китайский, с сухими жасминовыми цветками. Пробовала такой чай?
Рита неопределенно приподняла плечи.
– Вкусный напиток и этим все сказало.
Невдалеке играла музыка – тихая, грустная, неземная, через несколько минут ее придавила медь оркестра – на танцплощадке появились духовики в морской форме, до мастерства и неземной нежности им было далеко, а по части грохота они шагали впереди всех – с моряками никто не мог сравниться в округе. Даже звезды стушевались, замигали растерянно – духовики показывали класс, звездам было далеко до них.
– Все, теперь ко мне! – снова предложил Пургин, когда они походили по аллеям, посидели на двух скамейках, стараясь найти тихий угол и спрятаться от грохота военной меди, но трубные звуки оркестра доставали их везде, в каждом углу – тихих мест в санаторном парке не было. – Мы же хотели пить чай с жасминовыми цветками.
Рита ожесточенно потрясла головой – она боялась идти к Пургину.
– Боишься? – спросил он ее напрямую.
– Нет, – шепотом ответила она, – не боюсь.
– Тогда пойдем!
– Не хочу. – У Риты был упрямый характер, и это упрямство только раззадоривало Пургина – его тянуло к этой девушке, к Комсомолочке номер два, он должен был взять ее, как должен взять и Комсомолочку номер один – редакционную девушку Люду, сопротивление только разжигало жар внутри, Пургин с досадою вздохнул и притянул ее к себе.
– Перестань! Не бойся!
– Я ничего не боюсь.
– Тогда пойдем ко мне!
– Нет, – жестко произнесла Рита. Тон ее хоть и был жестким, но освободиться от объятий Пургина она не смогла. – Давай еще походим по аллеям, чуть-чуть. Ладно?
– Не хочу слушать оглушающую музыку, – он повел головой в сторону, где звучал духовой оркестр, – голова болит.
– Иногда в этой оглушающей гадости слышны и птичьи крики.
– Это крики хищных ночных птиц, которые давят разных зверьков – мышей, ежей, еще кого-нибудь, – птиц также давят, своих мелких сограждан. Прямо в гнездах. – Пургин передернул плечами.
Они ходили до трех часов ночи, пока грудастый ухажер Ритиной соседки не покинул спальный корпус. Рита распрощалась с Пургиным и ушла.
В свою комнату он забирался через окно – хорошо, в ней не были защелкнуты шпингалеты, – дверь в корпус оказалась закрытой, до дежурной нянечки Пургин не достучался.
Уснул он с чувством досады.
И было еще три дня, три безмятежных ясных дня, имевших свое деление по часам, от которого Пургин отвык за годы жизни на диване – дни имели рассветы и закаты, вечера и дивные, почти райские прохладные часы утра, когда солнце занимало половину неба и половину моря, и купание в море было таким божественным, что Пургин удивлялся, как же такую негу не описал никто из поэтов? Где же были Пушкин и Жуковский, Лермонтов и Некрасов? А может, и описали, только Пургин не знал этого?
Дельфиненок уже ждал Пургина, тут же приплывал к нему, фыркал, делал стойку на хвосте и все старался подсунуться под Пургина, который плавал плохо – былое не восстановил, хотя всем известно, что человек, научившись плавать один раз, потом уже этого не теряет, но с Пургиным природа сыграла злую шутку.
«Во всем виноват диван, – усмехался он, – который знает каждую мою косточку». Дельфиненок помогал Пургину плавать, и поверив в него, Пургин несколько раз рискнул отплыть далеко от берега, откуда были хорошо видны старые кудрявые горы, начинающиеся за береговой курортной полосой, прозрачные в сизом утреннем солнце, полоска дороги, по которой шустро бегали «эмки», полуторки с фанерными кузовами, развозившие по санаториям продукты и свежие, с полей, овощи, гряда нарядных частных домиков, густо заселенных дикими отпускниками, – и дельфиненок ни разу не оставил Пургина, помогал ему выгрести к берегу, подталкивал в бок, подсовывался под живот, возникал рядом, давая Пургину возможность ухватиться за плавник.
Пургину было стыдно, что он так плохо плавает, он отворачивался от Риты с виноватым лицом и огорченно приподнимал плечи: Бог в милости, мол, отказал, пропал дар… Но это было единственное его огорчение – больше отдых огорчений не приносил.
Происходило перерождение, Пургин чувствовал, что он становится другим; Пургин, получавший «стипендию» Сапфира Сапфировича, – это был один Пургин; тот, который не отрывал зада от редакционного дивана и по ночам опасливо ловил коридорные звуки, – был другой Пургин, человек, наливавшийся с Корягой портвейном в маленькой, пахнущей мышами и клопами квартирке, – третий Пургин, сейчас родился четвертый Пургин, и ему уже было понятно, каким будет следующий, пятый, Пургин.
Ознакомительная версия.