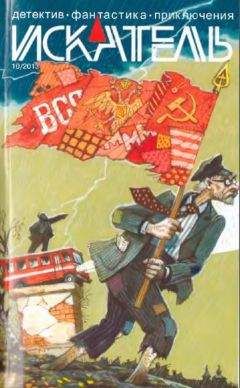Мы же со Стасом отправились к дому, зачуханной серой шестнадцатиэтажке, обросшей остекленными балконами, как затонувший корабль — раковинами. Шестой этаж, лифты не работают, обшарпанная лестница, изрисованная похабщиной, заваленная пивными банками и шприцами. Диденко позвонил, ответа не было, взятыми у старика ключами, в нарушение всех инструкций — а когда иначе? — вскрыл коммуналку.
Меня и сейчас спрашивают знакомые по торговому центру: неужели и в Москве есть коммуналки? Когда я киваю, задают второй: «Почему?»
Что я мог ответить? Коммуналки были всегда, правда, я никогда не жил в них. Мой отец, тоже милиционер, под конец жизни дослужившийся до начальника главка, получил трехкомнатную квартиру — и это на семью из трех человек, по советским меркам просто роскошь. А напротив, тоже в трехкомнатной была коммуналка, в большой комнате жил мой однокашник с родителями и бабушкой, в соседней — старушка, ветеран войны, и в самой маленькой — молодые, недавно вставшие в бесконечную очередь по улучшению жилья, сперва с одним, а потом двумя детьми. Не знаю, далеко ли они продвинулись, я уж столько лет не был в доме, где родился.
И тут тоже, трехкомнатная. Квартира старика самая дальняя от входа, планировка удивительно похожа — наверное, один проект. Я замер на пороге. Первое, что бросилось в глаза, — идеальный порядок. Все разложено по полочкам, упаковано, вычищено так, словно комната выставлена в наем и ждет придирчивых постояльцев. И только на столе лежала книжица. Диденко поднял ее. Хмыкнув, бросил обратно. Справка о состоянии здоровья, это нам, отмести последние подозрения в невменяемости.
— Чертов хрыч, — глухо произнес Стас, садясь за стол. — На тебя похож, кстати. — И, отвечая на мое удивление: — Любит доводить дела до упора. Чтоб всем все понятно стало.
— Не я. Мой отец.
Оперативным работником ли, или как в последние годы начальником, он во всем и везде, при любых обстоятельствах требовал соблюдения законам порядка. И неважно, зыбка ли почва, гневливы ли небеса, он оставался кремнем до конца дней своих. И вколачивал, не ремнем, но словом, простые истины, вбитые в него еще дедом, прошедшим две войны. Передавая накопленный двумя поколениями опыт в единственного сына. Наследника династии служителей закона. Методично, настойчиво, подчас сурово, но никогда не шутя… Он бывал добрым, веселым, странно, но смеха его я не помню. Помню подарки, обязательно с наставлениями, помню улыбку, а смех — казалось, такого с ним не могло произойти. Слишком подтянут, внимателен, строг, беспредельно строг к самому себе. Никогда не облокачивался на спинку стула, всегда мог обернуть беззаботный пустой разговор в серьезное русло. Никогда не оставался в стороне. Если помогал, то со всем старанием. Он все делал так, никогда не подавая даже вида, что это что-то ему не по силам. Когда сердце шалило, когда ломило голову, когда крючил ревматизм, он через не могу шел и добирался до своей правды, вызывая одновременно и страх, и безмерное уважение.
И все это завещал мне, когда ушел в девяносто втором, когда, наверное, впервые в жизни не смог подняться по единственной уважительной для него причине — остановке сердца. И я, сокрушенный его смертью, долго стоял у постели, очень долго, пока не подъехали врачи, никуда не торопившиеся, ведь спасать уже некого. Молча стоял, не плакал, как ни уговаривала мама. Зная, что ему так будет понятней, естественней мое горе — пятнадцатилетнего парня, нет, уже мужчины. Давно мужчины, только сейчас осознавшего свое положение в семье.
А когда первый шок, первая боль ушли, на каркасе созданного отцом внутри меня здания, я обнаружил пустоту и холодный ветер, гулко завывающий среди недостроенных железобетонных стен.
— Да не надо, ты ведь тоже во всем хотел идти до упора.
Хотел, да не мог. Свою твердокаменную настойчивость отец так и не сумел передать мне. А дальше ее пыталась вытравить мать, впервые оказавшаяся один на один с враз повзрослевшим сыном и безуспешно долго искавшая пути к его сердцу. Я ушел от нее в высшую школу милиции, окончил, заступил на первое дежурство, отправился на первое задание.
— Давай лучше искать, — я замолчал на полуслове. Комната старика вряд ли что нам скажет. Она уже чиста от своего владельца. — Лучше дождаться соседей.
На то не потребовалось много времени, через час прибыла семья: мать, моя погодка, и дочь лет десяти. Открытая дверь их обеспокоила, наличие полиции еще больше. Они замерли на пороге, хотя Стас и пригласил их внутрь, жестом хозяина предложив ветхий диван. Потоптались и нерешительно вошли, оглядываясь.
В точности я, когда заходил в отцову комнату. Да и похожи они были, нет, не обстановкой, но стерильностью. И тем, с какой нерешительностью их посещали. Сразу вспомнилось: вот точно так же я стоял, не в силах переступить невидимый глазу порог комнаты, вроде и дверь всегда открыта, даже когда отец спал, но порог, намеченный дорожкой паркета, заставлял останавливаться. Отец вставал без будильников, всегда ровно в шесть, как солдат, всегда готовый к новым поворотам судьбы, и, как солдат, ложился около полуночи, немедля засыпая.
Если кому-то надо было побеспокоить отца, он делал это из коридора. Если его вдруг приглашали в комнату, что случалось нечасто, наступала пауза, порой долгая. Особенно когда отец вызывал меня на допрос по поводу какой-то промашки, шалости, непослушания. Внимательно выслушивал и выносил вердикт.
Диденко принялся опрашивать соседей. Известие о смерти старика повергло обоих в замешательство, они тщились сказать о нем что-то подходящее случаю, но нужных слов вдруг не нашлось. Только потом полилось, подгоняемое одно другим: «крепкий старик, столько пережил — и вот», «печально это, хороший дедушка был», «строгий, но справедливый, и всегда помогал, если что», «подарки дарил, мне нравились», «у меня дочь его только и слушалась», «дедушка интересно рассказывал, хотя и старенький».
Я спросил про семью. Лица сразу омрачились. Да, семья, Елена Тимофеевна, как мужа своего потеряла, сразу сошла на нет, посерела вся. Они ж душа в душу жили. Даже дети не спасли, Аркадий больше оболтусами занимался, нежели мать. А после его смерти она все на самотек пустила, прости господи, ушла в себя, и никто ее никак уже не мог вернуть. А ведь какая женщина была.
— А внуки что? Они ж все в одной комнате жили, — сейчас даже странно подумать, что здесь, в этой комнатушке, обитали четыре человека. Был какой-то непорядок, разбросанная одежда, обувь на подоконнике, неубранные постели, шум голосов, споры и ссоры, беготня. Словом, дети.
— Конечно, в одной, понятно, что очень теснились. Сам старик от них ширмой отгораживался поначалу, ну, чтоб не мешать. Потом, как постарше стали, занавеской разделили, вот здесь стояла кровать Елены Тимофеевны, вот тут, у окна, старикова, а вот тут двухэтажная братьев. За столом они занимались вместе всегда, помогали друг дружке… Я и сама не знала, что они нюхают клей-то. Вроде нормальные, ну, баламуты, как все.