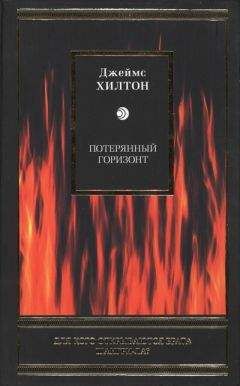— Значит, остается необъяснимым, как сам Конвэй добрался до Синьяна?
— Единственно остается думать, что он добрел туда так же, как мог добрести куда угодно еще. Но в Синьяне мы снова попадаем в мир бесспорных фактов, а это кое-что. Монахини в миссионерской больнице действительно существуют, равно как случившееся — в жизни, не в воображении — глубокое волнение Сивекинга на пароходе, когда Конвэй играл якобы Шопена. — Разерфорд помолчал и задумчиво продолжал: — Поистине это похоже на взвешивание различных вероятностей, причем, должен заметить, чаши весов все время то резко взлетают, то стремительно опускаются. Конечно, не верить рассказу Конвэя — значит либо сомневаться в его правдивости, либо ставить под вопрос его психическое здоровье. Только так, давай будем откровенными.
Он опять замолчал, как бы приглашая меня сообщить, что я думаю по этому поводу…
Я сказал:
— Как ты знаешь, после войны я его ни разу не видел. Но говорили, что война его очень сильно изменила.
На это Разерфорд ответил:
— Да, и перемены в нем произошли огромные. Это несомненно. Ты берешь, в сущности, еще мальчика, три года терзаешь его мощнейшими физическими и эмоциональными нагрузками и полагаешь, будто после этого в нем ничто не развалится на куски? Некоторые, наверное, скажут, что он выбрался без единой царапины. Однако царапины, шрамы были внутри его.
Мы немного поговорили о войне, о том, как она подействовала на разных людей, и потом Разерфорд вернулся к главной линии нашего разговора:
— Но есть еще одна вещь, которую я не могу обойти. И в известном смысле, может быть, самая удивительная из всех. Узнал я это, находясь у монахинь в Синьяне. Можешь догадаться, что старались они там ради меня изо всех сил. Но многого вспомнить уже не могли. Да еще и были поглощены работой: как раз навалилась эпидемия лихорадки. Один из вопросов, с которыми я приставал, касался первого появления Конвэя в больнице. Сам он пришел, один? Или его, больного, где-то нашли и доставили к монахиням? Кто? Никак они не могли припомнить. В конце концов, давно это было. И вдруг, когда я уже готов был оставить свои надоедливые расспросы, одна монахиня бросила как бы невзначай: «Кажется, доктор говорил, что его привела женщина». Вот и все, что она могла мне сказать. А доктор в миссии уже не работал, и снова все повисало в воздухе.
Но я глубоко влез в эту историю и отнюдь не собирался опускать руки. Выяснилось, что доктор получил место в большой больнице в Шанхае. Я раздобыл его адрес и отправился с визитом. Дело случилось как раз после воздушного налета японцев, и картина там была мрачная. С этим доктором мы познакомились, еще когда я посещал Синьян первый раз, и теперь он был со мной очень любезен. Но выглядел страшно усталым. Да, «страшно» — то самое слово. Поверь мне, немецкие налеты на Лондон — мелочь по сравнению с тем, что японцы устраивали с китайскими кварталами Шанхая. О да, наконец сказал он, он помнит больного англичанина, случай с утратой памяти. А правда ли, спросил я, будто в больницу его доставила женщина? О да, конечно, женщина, китаянка. А может ли он вспомнить что-нибудь еще с нею связанное? Ничего, ответил он, разве что она сама страдала от лихорадки и скончалась почти сразу…
Тут нас прервали. Поступила группа раненых, и их размещали на носилках в коридоре. Палаты были переполнены. Я не собирался отнимать у врача много времени. Особенно когда грохот пушек напоминал, что работы ему предстоит немало. Когда он снова вышел ко мне, бодрый посреди всего этого ужаса, я задал ему всего один, последний — и, полагаю, ты догадываешься какой — вопрос. Насчет этой китаянки: была ли она молодая?
Разерфорд мял свою сигару, как бы показывая, что рассказ взволновал его самого не меньше, чем должен был, по его представлениям, взволновать меня. Потом продолжил:
— Маленький доктор окинул меня очень серьезным взглядом и ответил на том забавном, усеченном английском языке, на котором говорят образованные китайцы: «О нет. Она была самая-самая старая, старше всех людей, каких я видел».
Мы долго сидели молча, а потом снова говорили о Конвэе, каким он мне запомнился, — полном мальчишеского задора и обаяния. Говорили о войне, которая его изменила, и о многих неразгаданных тайнах времени, возраста и души, и о маленькой маньчжурке, которая была «самой-самой старой», и о долине Голубой Луны с ее мечтой о предельном совершенстве.
— Как думаешь, найдет он ее? — спросил я.
Темплхоф — аэропорт Берлина. — Здесь и далее примеч. пер.
Баскул — одна из географических выдумок Хилтона; «подделка» под топонимику северо-западной Индии (ныне Пакистана) и Афганистана (ср. Кабул).
Африди — самоназвание пуштунского племени.
Граница — принятое среди британских колониальных чиновников обозначение территории Индии, прилегавшей к Афганистану.
Филипп Сидней (1554–1586) — писатель, воин, царедворец. Традиционно почитается как олицетворение рыцарства, элегантности, обаяния.
Синьян — город к северу от Ханькоу (современное название — Ухань); у Хилтона название выдуманного города, произвольно образованное «на китайский лад», нечаянно совпало с именем городка, действительно существующего и расположенного очень далеко от места, где могли бы происходить описываемые события.
Бейллиол — один из старейших (основан в 1263 г.) и самых известных колледжей Оксфордского университета.
Сивекинг — выдуманный персонаж. У читателя 30-х годов возникала ассоциация со знаменитым тогда немецким пианистом Вальтером Гизекингом (1895–1956), который впервые обратил на себя внимание исполнением четырех баллад Шопена.
Wehmut, Weltschmerz — грусть, мировая скорбь (нем.).
Холихед — порт на острове у западного побережья Уэльса. Кингстон — название многих, в том числе портовых городов мира. Возможно, имеется в виду административный центр Ямайки.
Тертуллиан — христианский богослов и философ (II–III века н. э.), видевший смысл веры именно в том, что она не может быть обоснована разумом.
Чандапур — вымышленное государство. В тогдашней Индии были два населенных пункта под названием Чандапур, но оба совсем не в тех краях, где развертывается действие романа.