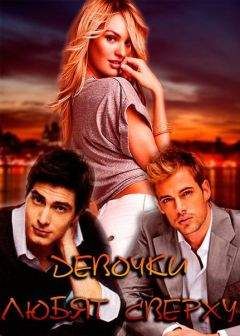Эх, что-то брюхо подводит у этого самого «главного мужчины»! Бута Малик уже и не помнил, когда последний раз ел плов. Сейчас бы хоть краюху свежего хлеба с куском овечьего сыра, а к ним стаканчик доброго ячменного пива «чанг»! Хорошо сваренный чанг не сравнить ни с каким другим напитком. Слегка, самую чуточку пьянит и очень питателен. И похмелья на следующий день не бывает, сколько ты его ни выпей…
— Эй, косматые! — прикрикнул пастух на всполошившихся отчего-то овец. — А ну, не балуй!
Чего это они? Никак и правда беду накликал? Чуют серого разбойника или дикую кошку, а всего хуже — человека…
«Бисмиллаги уррахмон рагим», — начал читать Бута первую суру Корана. Знакомые с детства чеканные арабские слова священной Книги привели в хорошее расположение духа. Вот ведь как сказано: «Во имя Аллаха милостивого, милосердного. Хвала Аллаху, Господу миров, милостивому, милосердному царю в день суда!» Хорошо, красиво!
…Вот бы старшенького, Мусу, отдать в медресе, чтобы на муллу выучился. Денег будет! И на сыр, и на хлеб, и на плов, и на чанг хватит. Хотя, конечно, мулле пить чанг как-то не с руки, соблазн все-таки. Но ведь пророк ничего не говорил о том, что нельзя пить ячменное пиво. Это виноградное вино нельзя, но где он, этот виноград, в горах-то? А чанг в этих местах — милое дело.
Бута Малику стало совсем весело и вроде уже и не так холодно.
…Он у него вообще молодец, Муса. Умный парень! И такой ловкий. Хоть и всего десятый год, а как помогает отцу и матери! Нет, точно стоит отдать его учиться на муллу. Но вот где взять денег? Учение недешево стоит…
Пастух помотал головой. Снова деньги! Всюду нужны эти проклятые кругляши. Дать бы обет не прикасаться к презренному металлу, да только что толку? Хотя… Хотя как сказать! Везет же этим бродячим йогам, факирам, буддийским монахам! Приняли обеты бедности и нестяжательства — и свободны. Ни жены, ни детей, знай себе совершенствуют силу духа. Им бы в шкуре пастуха хоть месяц походить, поглядел бы тогда на этих нестяжателей! А может быть, все дело в их богах? Да каких там богах — порождениях шайтана! Посмотришь на их жуткие образины, так с души воротит. Ну как можно поклоняться многоруким или трехголовым дэвам, а то и вовсе слоноголовому страшилищу? Завещали ведь Аллах и Мухаммед, пророк его, мир им обоим, чтоб не ставили себе идолов, не повергались перед ними во прах…
Костер медленно гас, и Бута Малик протянул руки к умирающим углям.
Вот если (да не услышит Аллах!), если бы какой-нибудь из этих жуткорылых посулил мешок угля да кусок мяса, да пару золотых… Ох и поклонился бы Бута Малик ему в самые ноженьки. А грех? Что грех? Ведь Аллах милостив, милосерден. Грех и отмолить недолго, лишь бы детишки не вопили. Сил нет уже слышать их бесконечное: «Папа, холодно. Папочка, кушать хочется!» Ну где же они, эти страхолюдины? А нету их! Не торопятся соблазнять правоверного мусульманина…
— И что же это с животиной делается, люди добрые? — очнулся от невеселых размышлений пастух. — Угомонитесь, угомонитесь, говорю я вам!
Бута Малик прислушался и тут же понял в чем дело. Издалека, перекрывая свист ветра, донесся жалобный звон колокольчика. Еще пару минут, и пастух услышал громкое заливистое «Бам-бам були!».
— О, несет шайтан кого-то! — скривился он. — Как будто чужой. Эй, ты кто? Тебе чего нужно?
Из-за близлежащего горного уступа появился худой долговязый человек с большим деревянным посохом в руке. Гость бодро шествовал прямо к костерку Бута Малика. Пастух всмотрелся — и лишь головой помотал. Принесло же!
…Старик, тощий, жилистый, как овца в конце зимы. Седые волосы давно уже не соприкасались с зубцами гребня, густая, такая же седая борода заплетена в несколько косичек, на лбу — изображение трезубца, такой же точно «тришуль» украшал посох. Несмотря на холод, старец был почти обнажен, лишь какое-то жалкое хламье прикрывало его сутулые плечи…
Бута Малика передернуло. Все ясно — садху, странствующий шиваит! Неужто другой дороги не мог найти? И пригласить грех и прогнать нельзя. Мало ли… Вон каков герой, голым по морозу бродит!
Пастух от знающих людей слыхивал, что некоторые аскеты учатся преодолевать холод — и небезуспешно. Мало того! Поговаривали, что аскета в промозглую погоду специально оборачивали в мокрое одеяло, а когда приходили через некоторое время, одеяло оказывалось сухим — подвижник высушивал его жаром собственного тела.
…Спаси Аллах! Не от Иблиса ли такие чудеса?
Вот и этот, видать, из таковских. Вон глаза горят, что твои угли. Ох, угли!..
— Мир тебе, путник, — поприветствовал гостя Бута.
— И к тебе да будет милостив Шива, — поклонился в ответ садху.
Бута чуть было не поморщился при звуке этого имени, но все-таки сдержался. Гость! Гость послан Аллахом!..
— Присаживайся, отец. Погрейся, отдохни с дороги. Вижу, долог был твой путь.
Аскет поблагодарил Малика легким кивком головы, словно он был всесильным раджей, а не нищим бродягой. Сел, протянул руки к гаснущему огню. Внезапно пламя вспыхнуло, словно от ладоней старика прямо на угли посыпалась угольная крошка. Пастух завороженно уставился на костерок, с трудом сглотнул.
…Знаем, знаем от кого эти чудеса!
— Извини, отец, но угостить тебя нечем. Завтра возвращаюсь в деревню, так что харчи все вышли. Горько у меня на душе…
— Ничего, сын мой, — аскет внезапно улыбнулся, — я не голоден.
«Сын мой!» — возмутилась правоверная душа Бута Малика. — Какой я тебе сын, язычник зловредный?»
Однако же вслух ничего не сказал. Гость!
Тем временем старик из откуда-то взявшейся котомки извлек две черствые лепешки, небольшой кусок сыра, коробочку с чаем и кулечек ячменной муки.
— Вода у тебя найдется, пастух?
— Да вон ее сколько кругом. — Бута ткнул пальцем в кучи снега, покрытые следами овечьих копыт.
— Так чего же ты сидишь? — удивился гость. — Давай чай готовить.
Чай получился отличным — наваристым, ароматным. Хорошо было бы в него кинуть еще и кусочек масла, как и положено, но масла у аскета не оказалось — не ел он масла. И даже от сыра отказался, отдав весь кусок пастуху.
«И правда, отец родной», — рассудил умиротворенный Бута Малик, поражаясь такой щедрости. Хорошо! Вон и овцы совсем успокоились, видать, признали старика за своего. Вроде как за пастыря овечьего.
И — понесло пастуха! Сам того не желая, раскрыл он перед странствующим аскетом душу, выложил все про скудное свое житье-бытье. Рассказал и о разумном Мусе, и о заветном желании сделать сына богатым и ученым человеком и, конечно, о мешке угля…
Старец слушал да кивал, со всем соглашаясь и сочувствуя. Добрая душа у язычника, даром что Шиве своему многорукому поклоны бьет! Когда же пастух, совсем разоткровенничавшись да язык развязав, поведал страннику о своих мыслях богохульных, тряхнул садху волосами седыми, блеснул глазами-угольями.