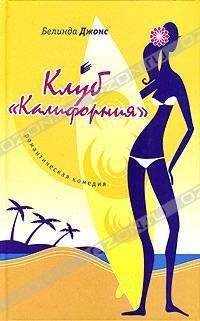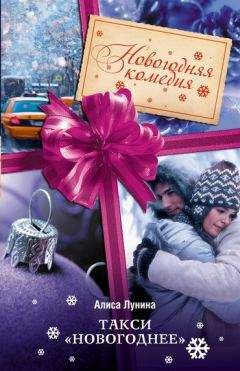Из соседней квартиры выходит бабка с пластиковым мусорным ведром, смотрит на меня исподлобья, шаркает по лестнице вниз. Наваливается похмелье — я-то надеялся, оно прошло, а оно только на время отступило из-за стресса, чтобы перегруппироваться и вернуться с новыми силами. В голове тяжесть, пальцы крупно дрожат, желудок протестует против выпитого дрянного кофе.
Возвращается старуха с пустым ведром, снова презрительно смотрит на меня, потом, скрипя замком, запирается у себя. Продолжаю ждать. Мама любит повторять, что моим главным качеством с первых дней жизни было редкостное упрямство; я так и не понял, правда, как похвалу она это говорит или как упрек.
Наверно, я задремал, потому что шагов за дерматиновой дверью не услышал. Открываю глаза — Надежда хмуро смотрит на меня, стоя в дверном проеме. На ней красные спортивные штаны с лампасами, мешковатая футболка и стоптанные тапки.
— Ну заходи уже, что с тобой делать…
Иду за ней по паркету-елочке. Местами лак облупился, обнажив темную древесину. Некоторые плашки разболтались, едва держатся.
— Да ты садись, что ли, — Надежда указывает на продавленный диван, сама опускается на стул, обитый красным плюшем. — Чего тебе от меня надо?
— Во-первых, я хочу попросить прощения за то, что так вламываюсь. И за то, что случилось ночью в офисе.
— Да было бы за что, — Надежда криво усмехается. — Мне-то ты ничего плохого не сделал. Я не держу зла.
— Почему тогда уволилась?
— Вот как раз чтобы меня не беспокоили такие, как ты. Не беда, найду другую работу, уборщицы везде нужны. У тебя все?
— Нет. Мне нужно знать. У тебя ведь не Дар уборщицы, как я думал все это время. Ты… свободная от Дара?
Только сейчас замечаю, что единственное украшение комнаты — пяток выцветших фотографий, наверно, вырезанных из журналов. На всех — золотые статуи Будды, из разных, должно быть, краев света. Позы и техника исполнения скульптур меняются, но бесстрастное выражение лица остается одним и тем же.
— В том, что вы называете Даром, нет ничего такого особенного, — вздыхает Надежда. — Во все времена было так, что если человек любит свое дело, оно отвечает ему взаимностью. И нет ничего недостойного или стыдного в мытье чужих унитазов… не знаю уж, почему ночью тебя так живо волновал этот вопрос. Уборка помещений никак не противоречит благородному пути… в отличие, например, от попыток влезть людям в сознание против их воли.
— Да, за это я и хотел попросить прощения. Я не должен был делать этого из каприза, тем более вот так, по пьяни. Но ведь это не сработало. Почему? Ты не получила Дара семнадцатого декабря?
— Нет. Мне это не нужно было, — просто отвечает Надежда. — У человека всегда всего достаточно. Хотя требуются время и усилия, чтобы это осознать.
— Значит, ты можешь забрать себе чужой Дар?
Надежда отворачивается и смотрит в окно, на соседнюю панельку. Раздвинула, значит, шторы, пока я сидел под дверью.
— Принять на себя чужое страдание, чужую неудовлетворенную страсть, чужую тревогу… Даже если и могу — зачем это мне?
Быстро окидываю взглядом выцветшие обои, древний гарнитур, цветочные горшки на широком подоконнике. Определенно, эту женщину не привлекают материальные ценности. Вообще ничего из того, что я могу предложить, ее не заинтересует. Черт, вот почему столько людей нуждались в моей помощи, а та единственная, от которой что-то нужно мне, сама не нуждается ни в чем?
Похоже, здесь действуют другие правила.
— Потому что я пришел к тебе за помощью. Разве ваш благородный путь разрешает отказывать в помощи?
Надежда пожимает плечами:
— Ну это же смотря кому… Ты, может, великий праведник? Тогда, конечно, помощь тебе будет благим деянием, а отказ в ней нанесет карме огромный ущерб. Но, только не обижайся, что-то я сомневаюсь в твоей праведности.
Раздражает, что я никак не могу понять возраст Надежды. Забыл посмотреть на дату рождения в паспорте. Когда она открывала дверь, казалась примерно моей ровесницей. А сейчас в ней проступает что-то… не старое, скорее древнее. Похоже, нет никакого смысла пытаться ее обмануть — это все равно что врать врачу, к которому пришел за лекарством.
— Ты права. Я не праведник.
— Людей убивал? — спрашивает Надежда так обыденно, словно интересуется, пил ли я сегодня чай.
— Было дело. Но я защищал себя и других. Разве я мог действовать иначе?
— Какая разница, мог или не мог. Даже если тебе просто не повезло. Такое случается. Убийца никак не может быть праведником. Ладно, спрошу что попроще. Жене изменяешь?
— Да.
Формально Оля мне пока не жена, но понимаю, что здесь это не имеет значения. Надежда криво усмехается:
— Вот это уж вряд ли ради защиты себя и других людей, да? Ты сейчас… ну как бы объяснить, чтобы ты понял… будто хочешь купить бриллиант, а на счету у тебя не то что ноль, а даже и минус. Счет кармический, но суть та же.
— Я ведь не для себя прошу.
— Это ничего не меняет. Если у тебя нет денег, ты не можешь купить бриллиант ни для себя, ни для другого.
— Ты даже не выслушала, в чем моя проблема!
— Не обижайся, но твои проблемы — не моя печаль. Тебе тут что, Диснейленд? Хрущоба исполнения желаний? В духовном мире тоже ничего не бывает бесплатно, знаешь ли.
Однако. Разве праведница может быть такое саркастичной? Честно говоря, ожидал, что Надежда окажется доброжелательной и благостной, как геше Эрдем. То ли я чего-то не понимаю о праведности, то ли просто с праведницей не повезло.
— Не хочу показаться негостеприимной, но тебе пора, — Надежда уже не пытается скрыть раздражение. — У меня дела, да и у тебя, надо полагать, тоже.
— Подожди! Ты не можешь… вот так. Я наломал дров — что есть, то есть. Но я не отказывал тем, кто приходил ко мне за помощью. Особенно тем, кому больше негде было искать помощи.
Надежда скрещивает руки на груди:
— Похвально. Продолжай в том же духе. В этой жизни карму убийцы ты вряд ли отработаешь, а там… Да найди лучше духовного учителя, он все нормально объяснит. Я не по этой части, мне вообще не показано общаться с людьми, как ты уже мог заметить. До свиданья, всего доброго.
Похоже, здесь ловить нечего. Не хочет человек мне помогать, даже слушать меня не хочет — обидно, но Надежда в своем праве. Колхоз — дело добровольное. Надо искать другого свободного от Дара, которому что-то от меня будет нужно… Нет, не прокатит. Им по определению ничего не нужно.
А ведь если бы Надежда была сегодня в Карьерном, она могла бы просто подойти к этим двум живым бомбам и застрелить их — ни гипноз, ни волна на нее не подействовали бы. А, стоп, не смогла бы — побрезговала бы портить убийством свою драгоценную карму. Убивать же фу-фу-фу, неважно, сколько людей таким образом можно спасти…
Тем не менее Надежда ничего не должна — ни мне, ни кому-то другому. Можно отказать в помощи тому, кому неоткуда больше ее ждать. Можно не выходить на битву со злом, чтобы не замарать свои белые одежды. Кто я такой, чтобы судить?
Но ведь это работает в рамках индивидуалистической логики мирного времени. А если смотреть на нас, людей, как на нечто общее, и знать, что мы стоим на пороге войны — станет ясно, что мы просто обязаны помогать друг другу. А кто не хочет, на тех можно надавить. Что важнее — воссоединение моей семьи или душевный комфорт этой праведницы? Она же осталась свободной от Дара, потому что соблюдала некоторые правила. Вот к этим правилам и надо апеллировать.
— Надежда, ты не можешь меня прогнать. Я имею право получить помощь. Черт возьми, я сейчас это докажу.
Напротив окна — мутноватое овальное зеркало. Встаю, подхожу к нему. Ну и рожа у меня… неважно.
Накатывает тошнота, и, похоже, причина не в похмелье или не только в нем. Сколько раз я проделывал это с другими… в ходе расследований, в основном, но бывало же, что и в собственных целях. Нередко под мой Дар попадали люди, ничего дурного не сделавшие — но надо же было в этом убедиться. Это воздействие безвредно… насколько известно.