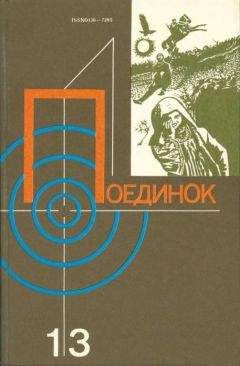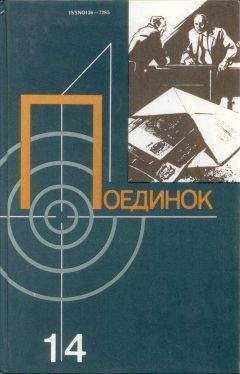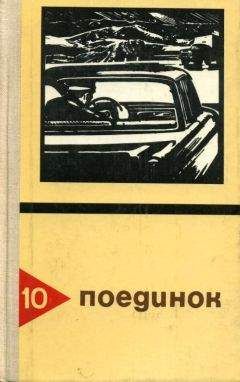Нет, не просто сабельки висели в комнате Алексея. Одна шашка с анненским красным темляком и надписью на эфесе «За храбрость». Вторая — золотое георгиевское оружие.
Климов снял их, завернул в одеяло и, стараясь не глядеть на плачущую сестру, оделся и пошел в военкомат. Он шел по улице, неся неудобный сверток, и ему казалось, что прохожие смотрят на него одного. Климов не холодное оружие нес в одеяле, а свою солдатскую доблесть. И поэтому кипело его лицо горячечным румянцем и ходили по щекам желваки.
Он вошел в комнату военкома, накуренную до синей горечи, и сразу же понял, что военком из солдат, вернее из строевых унтер-офицеров. Уж больно ладно сидела на нем потрепанная шинель, и смушковая папаха со звездою с особым кадровым шиком была сдвинута на брови.
— Моя фамилия Климов, — сказал Алексей и положил на стол сверток.
Военком развернул, с интересом поглядел на шашки.
— Чин? — он ткнул цигарку в пепельницу с позеленевшей бронзовой наядой.
— Штабс-капитан.
Из соседней комнаты вошел человек в штатском, в пенсне. Он подошел к столу, уважительно взял в руку шашку с георгиевским темляком.
— Золотое оружие?
— Так точно, — глухо ответил Климов.
— Садитесь, — человек в штатском взял тонкую папочку, полистал.
— Значит, бывший штабс-капитан Климов, двадцать шесть лет от роду, окончили первый Московский кадетский корпус, Александровское военное училище. Всю войну на фронте. На стороне контрреволюции не воевали. Все правильно?
— Так точно.
— А теперь скажите, гражданин Климов, кстати, моя фамилия Зубов, я из Революционного комитета, почему вы, военный человек, сидите дома, когда мы создаем Рабоче-Крестьянскую Красную Армию? Не хотите драться против однокашников по корпусу и училищу? Ну что ж. Дорога к пониманию непростая. Но тем не менее вы нам нужны.
— Кому? — спросил Алексей.
— Нам. Если хотите, русскому народу. Смагин!
В комнату вошел человек в солдатской шинели.
— Ты искал спеца на стрелковые курсы. Вот он, — Зубов указал на Климова. — Будете учить рабочих стрелять. Согласны?
— Так точно, — ответил Алексей, не понимая, радоваться ему или печалиться.
— А раз так, пишите прошение. На службе вы с сегодняшнего дня, а курсы начнут работать с двадцатого декабря. Товарищ Смагин — комиссар курсов, он вам все объяснит.
Зубов встал и уже у дверей, повернувшись, сказал:
— А шашки свои заберите, их вам за храбрость дали.
— Не ждали-то вас живым увидеть. Не ждали, — причитал дворник. От его старого тулупа пахло прогорклым лампадным маслом и кислятиной. — Батюшка ваш, помирая, все сокрушался. Плакал. Проститься хотел.
Табличка на дверях позеленела. Да и бог с ней, с табличкой, и папенькиным бывшим чином.
Туго повернулся ключ, растворилась дверь. Ударил в нос затхлый, пыльный запах.
— Все как есть сберег, — тихо и преданно сказал дворник, — все как есть.
Копытин достал из кармана пачку денег, отделил половину, протянул дворнику.
— Спасибо, Захар, дровишек раздобудь.
Дворник, стуча валенками, вбитыми в калоши, спустился вниз, и Копытин с Лапшиным вошли в квартиру. Такой же она была, маленькой и неуютной. Те же литографии на стене, та же пыльная скатерть на столе.
— Бедновато жили, а еще офицер, — усмехнулся Лапшин.
— На жалованье жили, — ответил Копытин, — на жалованье.
— Но ничего, Виктор, ты теперь при фартовом деле, доходном. Заживешь.
— Время покажет.
Пришел дворник с дровами, растопил печку. Потом пришла дворничиха, убралась в квартире.
Лапшин исчез куда-то. А Копытин достал из чемодана бутылку спирта, нашел стакан и выпил.
Вот он и дома. Нет, не было у него на душе сентиментального восторга и грусти. Не любил он свой дом. И запах его не любил, пахло всегда в квартире клейстером и горелым сургучом, потому что отец его служил по почтовому ведомству.
Скудность с детства преследовала его. И из кадетского корпуса, а потом из Александровского училища неохотно шел сюда юнкер Копытин.
Мучительно и тяжко завидовал он многим своим однокашникам, жившим обеспеченно и легко. Унизительное доставание денег привело его к карточному столу, и нашелся человек, научивший его играть нечестно. За это общество офицеров выгнало его из полка, но спасла война.
Но слух о том, что он шулер, тянулся за ним, его обходили чинами и наградами. Даже на Юге, у Корнилова, он чуть не убил товарища по офицерской роте капитана Звонарева, отказавшегося подать ему руку. Бедность. Не было страшнее слова для Копытина. Он вспомнил, как разговаривал с ним подполковник Незнанский, эта разряженная сволочь, и губы его свела ненависть. После контузии у него начала дергаться щека. И это, видимо, тоже вызывало в подполковнике чувство брезгливости.
Он очень рад, что после выполнения задания получит чин капитана, перескочив через штабс-капитана. Он все выполнит. Он понимает, что активизация уголовников отвлечет силы ЧК от офицерских организаций. Он будет убивать всех, кто пошел на службу к большевикам. Пусть интеллигенты боятся. Деньги от налетов пойдут на священное дело борьбы.
Да. Да. Да.
Но выходя из кабинета Незнанского, он уже знал, куда пойдут деньги. Нет, господин подполковник, не на создание офицерских дружин. Три-четыре хороших налета, а он знает людей в Москве, у которых есть что взять, и — в Питер, потом в Финляндию, в Париж. Хватит, понищенствовал. Но сначала надо взять. Между ним и Парижем, между сегодняшним днем и жизнью, которую он себе нарисовал мысленно, лежала осенняя Москва. Стояли чекисты и милиционеры. Да мало ли кто мог ему помешать. И поэтому все существо Копытина наливалось тяжелой злобой.
С Собаном он увиделся через четыре дня в номере гостиницы «Лиссабон» в Замоскворечье.
А через день они на Трубной площади брали артельщика, брали дилетантски, по-глупому. Деньги-то взяли, но ушли, «оставляя на деревьях клочья шерсти».
Копытин прикрывал отход. Две гранаты пустил в дело. Потом, на какой-то даче в Серебряном бору, Собан сказал:
— Если бы не ты — нам конец.
Вот тогда Копытин сам рассчитал и подготовил налет на контору Волжско-Камского банка. Взяли много и ушли без потерь. Теперь его авторитет стал непреклонным. Особенно когда он шлепнул наводчика, из-за которого они на Поварской чуть не попали в ловушку.
Даже Собан понял, что у Копытина есть своя четкая система. Виктор реорганизовал банду, разбив ее на группы. Одни занимались разведкой объекта, другие наружным наблюдением, наиболее умелые вошли в группу захвата, наиболее стойкие стали прикрытием. Теперь банда больше походила на воинское формирование. Дисциплина была железная.