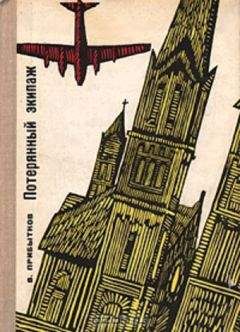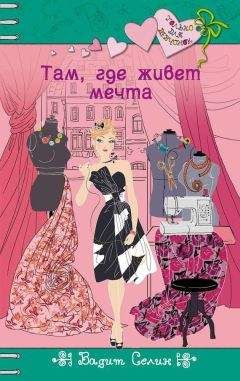Штурмбаннфюреру хотелось спать. Ночь могла оказаться беспокойной: русские потеснили войска армии, назревала угроза прорыва противника, реальной оставалась угроза выброски новых десантов, и, пока из штаба армии не вызывали, Раббе хотел выкроить часок-другой для сна.
Он вышел из здания штаба вялой походкой обремененного непосильными делами человека.
Часовые приветствовали своего шефа.
Раббе ответил на приветствие, не обратив внимания на открыто идущего по тротуару человека: час был комендантский, жителям полагалось находиться в домах.
Два выстрела в живот свалили Раббе на тротуар.
Он забился и закричал, призывая на помощь.
Часовые бросились к штурмбаннфюреру.
Стрелявший мог бежать.
Но он стоял и смотрел…
Спохватившись, один из часовых бросился на стрелявшего.
Тот не сопротивлялся.
Это был еврейский юноша, почти мальчик.
Позднее, на допросе, он сказал, что мстил за семью, уничтоженную третьего дня.
Но как ему удалось скрыться от облавы, где он взял оружие, мальчик не сказал и умер под пыткой, не выдав ни одного человека…
3
— Ну, так как жить будем? — спросил Бунцев, опускаясь на землю возле Ольги Кротовой и глядя в степь, туда же, куда смотрела радистка, назначенная им в первый караул.
После завтрака Бунцев допросил пленных, потом они со штурманом побрились найденной в чемодане полковника бритвой, а девушки, отойдя за кусты, переоделись в отутюженное, пахнущее лавандой полковничье белье.
Теперь Телкин и Нина спали, Мате наблюдал за пленными, а Бунцев, пользуясь случаем, пришел к радистке.
— Так как будем жить? — повторил Бунцев.
Он тоже устал, ему тоже хотелось отдохнуть, но другого случая могло не представиться, надо было пользоваться этим.
Радистка упорно смотрела в степь.
— Да как, товарищ капитан? — спросила она. — Как жили, так и будем. Теперь недолго… Карл подтвердил же, что до линии фронта тридцать километров! Значит, завтра-послезавтра к своим выйдем.
— Я про это и говорю, — сказал Бунцев.
— Самое опасное — линию фронта переходить, — сказала радистка, словно не догадываясь, к чему клонит Бунцев. — Артиллерия своя бьет, пулеметы… Но я верю, все обойдется.
— Ольга! — сказал Бунцев.
— Хотя всякое случается, — быстро, не слушая, продолжала радистка, и, наблюдая за ней краешком глаза, капитан заметил на щеках Кротовой лихорадочный румянец. — Я не рассказывала вам, товарищ капитан, как мы однажды на Северном Кавказе к своим вышли?
— Не о Северном Кавказе речь, — тихо сказал Бунцев.
— Да нет! Вы послушайте! — упорствовала Кротова. Вырвав пучок травы, она перетирала траву в пальцах.
— Вы послушайте! — повторила Кротова. — Это интересно, товарищ капитан!
— Ну что ж… Расскажи, — согласился Бунцев, догадываясь, что радистка ждала разговора и про Северный Кавказ вспомнила неспроста. — Расскажи.
— Мы были заброшены в немецкий тыл на парашютах, — сказала Кротова. — Я и восемнадцать русских и испанских товарищей. Между прочим, некоторые испанцы были соратниками полковника Григорьева по испанской войне…
— Ну?
— Подробности не важны. Задание мы выполнили, потеряв только одного товарища убитым. На танковой мине подорвался… И вышли к своим. Вполне благополучно, между прочим. На стыке двух немецких батальонов прошли, и нас ждали: я по рации предупредила о выходе…
— Так, — сказал Бунцев. — Продолжай, что же ты?
— Ну, вышли. Зима, мороз… Нас сразу к командиру дивизии. В блиндаж. Мы первым делом, даже не отогревшись, сведения свои выложили. Конечно, радость и все такое. Комдив приказывает нам отдыхать, распоряжается накормить самым лучшим и даже водки выдать велит сверх фронтовых положенных ста граммов…
— Неплохо! — сказал Бунцев.
— Неплохо, — кивнула Кротова. — Только пообедать нам не удалось. Едва уселись за трапезу — приходят из особого отдела. Нашелся там какой-то сверхбдительный товарищ. Смутило его, понимаете ли, что документов при нас нет… А какие же у нас могли быть документы?! Ведь прежде, чем в тыл к немцам идти, все документы сдаешь!.. Мы пытались объяснить, что к чему, только нас не послушали. Приказывают: «Сдать оружие!» Ну, мы сдали. А как только сдали, нас от обеда оторвали, под конвой и пешим порядком за двадцать километров в штаб армии.
— Нелепость! — глухо сказал Бунцев.
— Конечно, — согласилась Кротова. — Но двадцать километров по морозу под конвоем, как враги какие-нибудь, мы все-таки протопали. И несколько испанцев обморозились. Да и в штабе армии три часа в одном сарае со всякой сволочью — с полицаями, с дезертирами — нас продержали, пока командующий армией не узнал и не вмешался… Вот ведь как случается под горячую руку! А мы…
Радистка запнулась.
— Договаривай, — приказал Бунцев.
Кротова гладила ствол автомата.
— Договаривай!
— Что ж договаривать? — тряхнув белесой челкой и щурясь, спросила радистка. — Мы подозрений не должны были вызвать, о нас знали, и все-таки задержали, и не сразу разобрались…
— Так, — сказал Бунцев. — Все ясно.
Радистка посмотрела на него и отвела взгляд. Короткие реснички ее дрожали. Губы сжались.
— Почему ты не веришь Мальковой? — спросил Бунцев.
Радистка глядела в степь. Чуть приметно пожала плечами:
— А при чем тут я? В биографии Мальковой и без меня разберутся…
— Может, и без меня?
— Может, и без вас.
— Ну, этого не будет, — сказал Бунцев. — Без меня не будет.
— Уверены, товарищ капитан?
— Уверен, — сказал Бунцев. — Человек нам душу открыл. Я верю, что Нина и Шура цистерны взорвали. Мы с тобой их из-под расстрела вырвали. Нынче Малькова меня выручила, прикончила этого гада с ножом… Как же без меня? Кто же лучше нас разберется?
— Найдется кто… — сказала радистка. — Мы Малькову два дня знаем. А она не два дня на свете живет.
На скулах Бунцева катались желваки.
— Значит, так, — сказал он. — Значит, и сама ей не веришь и мне верить не советуешь?
— Да вы поймите меня, товарищ капитан! — тоскливо воскликнула радистка. — Почему вы не хотите понять?!
В маленьких серых глазах ее бились мольба и тревога.
— Я понимаю, — сказал Бунцев. — Я, Ольга, не чурбан… И, помедлив, напрямик спросил:
— За последствия боишься?.. Ладно. Нечего в прятки играть. Люди взрослые.
Кротова побледнела. Их глаза встретились.
— Да, боюсь, — сказала Кротова, не отводя взгляда. — Да.
Бунцев, сдвинув темные брови, долго разглядывал пожухший стебелек какого-то полевого цветка. Уже не узнать какого.