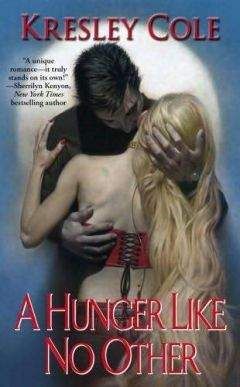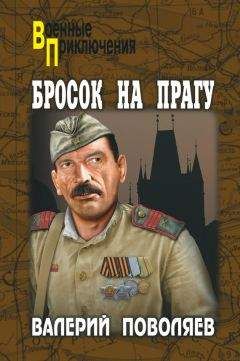Ознакомительная версия.
Но даже если бы он прочитал газету со славословиями Серого, то вряд ли бы вспомнил одного из топтунов, ходивших за ним в тридцать шестом году по пятам. Топтунов тогда он засек троих – молодого невзрачного парня, окропляющего асфальт соплями – от вечного пребывания на улице он простыл до самого нутра, у него даже кости сочились соплями, этот малый стал хроником, носатого армянина и чистенького, дворянского вида старичка в немодной, заношенной до седины шляпе, при галстуке, – непременная принадлежность интеллигента, – пришпиленном к рубашке заколкой. Чем-то тот старичок напоминал Пургину Топаза Топазовича, был он тих, несуетлив и чем-то очень противен, как, наверное, бывает противен всякий топтун-наблюдатель, а этот – особенно. «На пенсии, наверное, находится, – решил тогда Пургин, – а в свободное время прирабатывает».
Старичок тот достался московским органам от царской охранки, всю свою жизнь он посвятил тому, что снашивал обувь, сносил ее бессчетное количество пар, а уж сколько подметок издырявил – вообще числом определить нельзя. Нет такой цифры. Глаз у старичка был, что фотоаппарат, если старичок один раз обращал внимание на человека – именно обращал, это профессиональное, – то фотографировал его навсегда. И фотокарточку прочно держал в памяти.
Своим способностям старичок не удивлялся – это у него было профессиональное, вырабатывалось, накапливалось по толике с того самого дня, когда он в первый раз переступил порог полицейского участка.
Про свои способности он говорил:
– От отца все это. Отец у меня фотографом служил в магазине на Кузнецком мосту, он и научил запоминать людей – потом это мне не раз пригождалось. Серебро за редкую свою способность брал. – Старичок пальцем стряхивал слезки с глаз, жаловался: – Вся способность моя в зрение ушла. Человека запоминаю мертво, он будто бы приклеивается к мозгу, а вот обычный номер телефона приклеить не могу – не запоминается. И адрес запомнить не могу, и имя-отчество, и кое-чего еще… Вон сосед у меня есть, на одной лестничной площадке живем – он инженер по земляному маслу, по нефти, значит. Когда этот инженер приезжает в Баку, то не требует никаких справочников по вышкам, по запасам нефти и того, какие трубы, на какую вышку надо доставлять иль чего еще, он все знает без бумаг и талмудов, он спиною поворачивается к морю и говорит: «Первая вышка справа – номер такой-то, бурит горизонт, бишь, пласт иль что у них там есть, такой-то, сейчас находится на глубине этакой-то, – называет, значит, глубину, предположительные запасы нефти, мощность двигателей, запас кабелей на удлинение от берега и так далее – выдает, в общем, всю вышку целиком, с потрохами, потом идет дальше: следующая вышка номер сякой-то, бур сидит на глубине два с половиной километра, нефти там столько-то, газа столько-то, вазелина столько-то, коньяку столько, движки такие-то, длина кабелей сякая-то, платформа поднимается над уровнем воды на столько-то четвертей и те де, и те пе…» Смотрю я на этого инженера – душа радуется – специалист!
Старичок произносил часть слов на свой лад: «энтот», «спецьялист», «вишка», вместо «вышка», «бурь» вместо «бура», сказывался не то местечковый, не то зарядский – из Зарядья – акцент, походил старичок на подшибленного темного голубя с азартными, влажно поблескивающими глазами выпивохи и продувного игрока в карты, когда говорил, ходил кругами, обвораживая собеседника, заглядывал ему в лицо, квохтал, рассыпал подле себя нервный хриплый хохоток и перхоть.
– Но этот вумный инженер, – старичок так и произнес это слово – «вумный», поднял указательный палец, – не знает ни одного стихотворения – в жизни не мог запомнить и в гимназии схватил немало двоек – никак стихотворения не укладывались у него в голове, выскальзывали в дырки… Значит, человек этот имеет особый склад ума – технический, так сказать, совсем далекий от всего другого. Так и я. Я имею особый склад ума, памяти, запоминаю то, чего не помнят другие, вот тут эта запоминалка находится, – старичок сдвигал шляпу на нос и стучал себя по затылку костяшками пальцев, – вот тута. Один раз как увижу человека, так засвечу его на все оставшиеся времена – можно не фотографировать и отпечаточки пальцев не снимать, – нич-чего этого не понадобится, все находится тута, – он снова стучал себя по затылку, – тута!
Так попал ему на глаза и Пургин.
Повертев воскресную «Комсомолку» в руках – эту газету старичок выписывал с двадцать пятого года, поскольку молодежь любил, считал ее своим будущим, досадливо кряхтел, если ему в ней что-то не нравилось, но считал, что без молодежи никакие великие дела не сдвинуть, – старичок крякнул и приставил к носу палец:
– Этого человека я где-то видел!
Он уже не сомневался, что изображенный в газете Пургин – его клиент. Ну если не его личный, то клиент его ведомства. А старичок подрабатывал во всех ведомствах, где ему платили, – в МУРе, в «домике на горке», пробовал даже прибиться к армии, к их рабоче-крестьянскому и прочему сыску, но старичка турнули прямо от бюро пропусков, и стать своим в армии он уже больше не пытался, подрабатывал он и на частных заданиях – то дамочку, жену богатого профессора-юриста выслеживал, то за любовницей начальника Главриса присматривал, то за шофером одного писателя – работы ему, в общем, хватало.
– Это наш гражданин, – прокряхтел старичок и нехотя поднялся с дивана. День был жаркий, как на юге в лучшие летние времена – от солнца некуда было спрятаться и людям хотелось бегать по улице голяком – припекало здорово, но старичку жар костей не ломил. Он натянул на себя темные, припахивающие старческим недержанием брюки, рубашку с потертыми, но чистыми манжетами и серебряными запонками, заранее вдетыми в прорези – сухонькая птичья лапка старичка свободно, без всяких зацепов и препятствий проскочила в манжет, повязал галстук, пришпилил его к рубашке знакомой Пургину заколкой.
Он собирался неторопливо, покхекивая в кулачок, рассеивая вокруг себя перхоть и слабые, не способные держаться на голове волосы, повторяя одну и ту же череду отработанных движений, в которых не было ни одного лишнего жеста – только то, что было заработано годами: старичок повторял сам себя.
На улицу он вышел одетый чуть ли не по-зимнему – в плотном костюме, в теплой вытертой шляпе, с толстой шишковатой тростью производства кубачинских мастеров – старичок любил «изящные» вещи, такие, как эта лаковая, с металлическим орнаментом трость, без трости, кстати, ему было уже трудно ходить и роль топтуна он выполнять не смог бы, – ткнул палкой в мягкий от жары асфальт, крякнул довольно и неторопливо зашаркал подошвами по тротуару.
Ознакомительная версия.