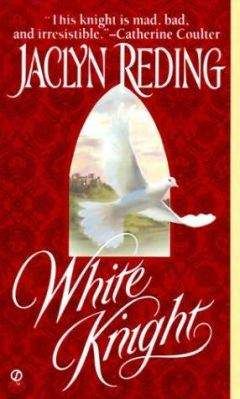— А! — вопит этот кретин. — Здорово? «Девушки не в зачет»? Здорово. Не в бровь, а в глаз, ну точно про тебя. Кстати, о девушках, — становится серьезным, — Люська от нас ушла. Какая-то смурная последнее время ходила. Не замечал? Ушла. Уезжает или еще что. Может, неприятности какие. Мать ее к ректору приходила…
— Мать приходила? — я неприятно поражен (ведь Люся обещала…) — Зачем?
— Не знаю, видел в приемной, Люська меня как-то давно с ней знакомила.
Он долго молчит, отводит глаза, смотрит по сторонам, чувствую, хочет что-то сказать, но не решается, наконец не выдерживает:
— Слушай, Рогачев, не следовало бы говорить, конечно, негоже тебе здесь за границей настроение портить да еще в последние дни, но ты меня знаешь. Дружба есть дружба (какая у меня с этим синим чулком в брюках дружба!), все-таки лучше предупредить заранее…
— Да можешь ты толком, черт возьми! — не выдерживаю.
— Тихо, тихо, не ори. Понимаешь, повестка в институт пришла. Дома они тебя не нашли, нет никого, в институт прислали, с милиционером. Ректор звонил куда-то. Машка (секретарь ректора, трепачка) рассказывала (всех секретуток, машинисток, уборщиц, дворников в институте знает, буфетчиц особенно). Дело, что ли, уголовное, с какими-то кассетами запрещенными. Вроде парня одного прихватили, он молчал, молчал, а как на суде почувствовал, что жареным запахло, стал всех подряд закладывать. Дело на доследование вернули. Ну и тебя он назвал. Да ты не робей, разберутся. Мало кто на тебя бочку катить будет. Может, ты у него когда-то девушку отбил? А? Рогачев, это ведь по твоей части, ха, ха, ха, — и опять смеется как дурак. И что-то говорит.
А я не слышу. Я смотрю на него и понимаю, что вижу последний раз.
Да, здесь, издалека, все мои московские неприятности показались мне мелкими, случайными. Ну что они по сравнению с решением, которое я готов был принять. Теперь принял. Да вот все колебался, ох как не хочется оставаться. Или хочется? Я понимаю, что здесь я буду иметь все, ну почти все, что хочу (в рамках разумного, конечно, во всяком случае, то, на что человек, подобный мне, имеет право, не валяются все-таки рогачевы на каждом углу!). А там?
Мне не хочется думать о том, что я оставляю там. Да и чего об этом думать? После того, что рассказал мне Константинов, мне ясно: все пути отрезаны.
Да еще этот мистер Холмер, чтоб он сгорел! Он? Ни в коем случае! Он — моя главная, моя единственная надежда. А надежда, как известно, умирает последней, позже человека…
Мы возвращаемся в отель. Я прощаюсь с Левой в холле, крепко жму ему руку (он немного удивлен), что ж, он сослужил мне хорошую службу, иду к себе, вынимаю из холодильника что есть покрепче и выпиваю (интересно, кто будет теперь платить за номер?). Выпиваю еще и начинаю размышлять на трезвую голову.
Значит, так, послезавтра, в субботу, мы должны улетать. С утра. Всякие офисы у них в субботу, наверное, закрыты, в том числе государственные — уик-энд, здесь, в Голливуде, городе бездельников, перегружаться не любят. Только безработные все время работают — читают объявления, не нужен ли где-нибудь кто-нибудь на роль унитаза (очень остроумно! Я делаю успехи, скоро буду писать комедии). Значит, явиться я должен в пятницу. Куда? Надо выяснить. К иммиграционным властям? В полицию? ФБР? ЦРУ? Там меня особенно ждут, принесу сверхсекретный документ: копию режиссерского сценария.
Ну куда подевались Джен и Сэм? Звоню без конца — молчание.
Потом рассуждаю: мистер Холмер возвращается в понедельник, когда наших уже не будет — Известный режиссер в субботу утром отбывает в Москву, а директор с Константиновым, как они сказали, в пятницу вечером — куда-то в другой город на побережье, где будут строить флот Петра Великого (в Финском заливе это, оказывается, сделать невозможно).
Значит, если я исчезну в субботу прямо с аэродрома, мне надо где-то проболтаться два выходных дня и в понедельник спокойно вернуться в отель, сесть в холле и дождаться звонка мистера Холмера. А уж тогда беспокоиться нечего.
Теперь-то понимаю, каким я все-таки был наивным болваном. При моем-то уме, при моем-то уже немалом, увы, теоретическом знании американской жизни и вообще всех этих темных дел. Это теперь. А то было тогда.
Представитель студии провожает нас в Лос-Анджелесском аэропорту. Мы регистрируем билеты, сдаем чемоданы (в моем все равно ничего нет), направляемся к паспортному контролю. У нас еще полчаса, и, чтоб не задерживать представителя студии (все же суббота, выходной), благодарим его и прощаемся. Известный режиссер, как всегда, в последний момент вспоминает, что кому-то не купил сувениров, и устремляется к киоскам.
Я спускаюсь вниз, выхожу, беру такси и еду в город. Останавливаюсь у скромного отеля и снимаю номер (какое счастье, что в Америке никто у тебя паспорта не спрашивает, особенно, если платишь за два дня вперед). Ого-го, ну и цены! Ненадолго же мне хватит моих двух тысяч долларов (минус пятьдесят).
Я скромно обедаю в мотельном ресторанчике (скромно, ну и цены!), возвращаюсь в номер, включаю радио и застываю в напряжении.
Странно, я не испытываю никаких бурных чувств. Словно так и должно быть, словно продолжается моя командировка, словно я не совершил самого важного шага в своей жизни. Рокового? Не знаю. Непоправимого? Наверняка.
Я потом не раз анализировал это свое спокойствие и пришел к выводу, что то был результат чудовищного нервного напряжения последних часов. А может быть, дней, недель… У меня просто не было больше сил на переживания — радость, сожаление, страх перед будущим. Я лежал в полудреме и слушал рекламные вопли, песни, речитативы, призывы покупать консервы, мыло, автомобили, кукурузные хлопья, ботинки, ракетки, мастику, табаки, виски…
Слушал последние известия, в которых необходимая доля помоев изливалась, как обычно, на мою родину (мою? Бывшую мою! Бывшую!).
В шестнадцать часов наконец я услышал по местной сети очень коротко: в Лос-Анджелесском аэропорту не явился к самолету советский гражданин Борис Рогачев. Он прибыл в аэропорт, чтобы лететь в Москву, зарегистрировал билет, сдал багаж и исчез. Никто, в том числе второй советский гражданин Известный режиссер, у которого Рогачев был переводчиком, и также представитель киностудии, по приглашению которой они приезжали в Голливуд, ничего сообщить не смогли. Самолет был задержан на двадцать минут, после чего улетел. Советское посольство поставлено в известность. Полиция ведет розыск. Все. Никаких комментариев. Интересно, слышал ли это сообщение мистер Холмер?
Продолжаю осуществлять свой план. Залегаю в своем мотеле, как медведь в берлоге. Целый день сижу в номере (только перекусить выхожу), слушаю радио, читаю газеты. Поскольку суббота и воскресенье, мною, видимо, никто особенно не занимается. Однажды в тех же местных новостях в понедельник утром сообщают, что поиски пропавшего советского гражданина продолжаются, но пока безуспешно.