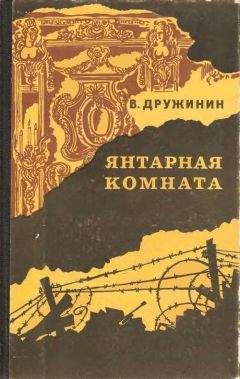Больше Моргензанг ничего не мог сказать нам. Он проводил меня до ворот и напоследок снова выразил свое самое заветное, самое искреннее желание — открыть кабачок «Кровавый суд» для русских офицеров.
Итак, накануне штурма Катя была жива. Что же случилось с ней потом?
Найти бы кого-нибудь из тех пленных! На окраинах Кенигсберга, как грибы разрослись бараки, обнесенные колючей проволокой. Узников гоняли на фабрики, на оборонные работы.
Вечером Бакулин выслушал мой доклад.
— Мы на верном пути, — сказал он. — Ты прав, надо поискать среди пленных. Они еще здесь, Идет процедура учета, репатриации. Терять времени нельзя.
Минул день, другой. След Кати снова оборвался. В одном лагере ее видели, — она приехала с обер-лейтенантом; им дали группу пленных. Они не вернулись в лагерь. Это было накануне штурма.
Итак, Катя была тогда жива. Взяв пленных, «оппель» Кайуса Фойгта прибыл в замок за янтарем. Оттуда Катя уехала. С Фойгтом, с обер-лейтенантом, — возможно, Бинеманом, помощником фон Шехта.
Куда?
На доклад к Бакулину я являлся каждый вечер.
— Как вы-то думаете, товарищ майор? — спрашивал я его с тревогой. — Жива она? Есть надежда?
— Данных нет, — отвечал он. — Надежду не теряй, Ширяев. Составил я вчера бумагу для начальства. О ней. Знаешь, рука не поднимается написать — «пропала без вести». Ну, никак… Достанем вести! Верно?
Однажды я застал у него незнакомого полковника — краснолицего, с острой бородкой, белой как снег. Оба рассматривали что-то, скрытое от меня бронзовым письменным прибором.
— Товарищ полковник, — сказал я, — разрешите обратиться к майору?
— Ради бога, голубчик, — протянул тот. — Зачем вы спрашиваете? Обращайтесь сколько вам угодно.
Я опешил.
— В армии спрашивают, — пояснил гостю Бакулин и улыбнулся мне. — Уставное правило. Ну, что у тебя?
Штатские манеры полковника смутили меня. Я молчал.
— Познакомьтесь, — сказал майор и обернулся к гостю. — Это Ширяев. Тот самый…
Я едва устоял на ногах — с таким жаром бросился ко мне этот диковинный полковник, схватил за плечи, отпустил, снова схватил и стал трясти.
— Ширяев? Нуте-ка, дайте полюбоваться на вас. Орел! Орел! Вы наградили его, товарищ Бакулин? Эх, дали бы мне право, я бы вам высший орден… Ну, молодец! Батальон в плен взял! Глазом не моргнул!
— Остатки батальона, — поправил я, не зная, куда деться от столь неумеренных похвал.
— А я Сторицын, — заявил он. — Сторицын. Ударение на первом слоге.
— Очень приятно, — промямлил я.
— Профессор Сторицын, — продолжал он. — И вот полковник, без году неделя. Командировали сюда, одели. Все честь отдают, а я не умею. Кланяюсь, знаете, как самый паршивый штафирка. Зрелище мерзкое. А?
— Звание присвоил министр, — веско произнес Бакулин. — Ну, что у тебя, Ширяев? Не стесняйся. Полковнику тоже интересно.
Сторицын сел. Пока я говорил, он кивал, вздыхал, и я почувствовал — история Кати Мищенко ему уже известна.
— Значит, нового ничего, — подвел итог Бакулин. — Теперь насчет дальнейшего.
Он подозвал меня, и я увидел то, что они разглядывали, когда я вошел. На столе лежал портрет. Портрет женщины в платке, написанный масляными красками на небольшом холсте, потемневший, местами в паутинке трещин. Что-то, заставило меня еще раз посмотреть на него.
— Венецианов, — сказал Бакулин. — Подлинный Венецианов из Минской галереи.
Я не слыхал о таком художнике.
— О дальнейшем, Ширяев. Порфирий Степанович прибыл к нам по распоряжению правительства, за музейным имуществом. Будешь ему помогать.
А как же розыск? Я испугался. Первая моя мысль была, не решил ли Бакулин снять меня с задания. Дни идут, а результатов никаких. Чего я добился? Вот сейчас он скажет, что я не справился, и дело поручат другому, а меня — под начало к этому профессору. Рыскать за спрятанными картинами, за всяким музейным добром!
— Ясно, — выдавил я.
Бакулин засмеялся.
— Что тебе ясно? Ну!
— Не сумел я… Отстраняете меня, выходит… Сожалею, товарищ майор.
— Ах так? — Он нахмурился. — Ничего ты не понял. Не разобрался ты, для чего находилась у немцев Катя Мищенко. Миссия ее тебе безразлична, а если так, то, может быть, тебя действительно следует сейчас же отстранить.
— Полноте! — всполошился Сторицын. — Такого молодца, и вдруг…
Недоставало мне его участия! Я помрачнел еще больше. Но лицо Бакулина уже потеплело.
— Отвык ты от мирной жизни, Ширяев, — начал он. — Забыл ее, что ли. Огрубел. Я до войны был следователем. Бывало, измучаешься дьявольски, вся душа, как бы выразиться, в мозолях от соприкосновения с разной слякотью. Выберешь свободный вечер — и в филармонию. Послушаешь Чайковского, и вроде вокруг тебя светлее стало. Вера в человека поднимается. Вот ты читал в газетах: гитлеровцы разорили домик Чайковского в Клину, новгородский кремль разрушили. А ты задумывался, почему? Да ведь они русскую нацию хотели убить. Что мы такое без русской национальной культуры, без книг Пушкина, без картин Репина, Сурикова! Без Венецианова, — он показал на портрет. — Или взять Янтарную комнату. Я повторяю, впечатление незабываемое. Стены в огне. Два века назад зажгли этот янтарный огонь, а он все горел, светил нам… Такие вещи цены не имеют, они дороже денег. Это культура наша. Она и в нас, понял?
— Браво, браво! — Сторицын захлопал мягкими ладонями. — Да что вы напустились на него! Понимает он, отлично понимает.
— Умом — может быть, а сердцем — еще нет. Катя Мищенко тоже Родину защищала. Не хуже нас с тобой. Так вот, надо завершать ее миссию. Искать то, что фон Шехт и прочие увезли в Германию, в Кенигсберг. Раскрыть все махинации, всю подноготную этого эйнзатцштаба. Без этого мы и о Кате вряд ли узнаём что-нибудь. Ясно тебе, Ширяев? Ясно, почему задание у тебя и у полковника, по существу, одно? Нам без него не обойтись, а ему — без нас.
Сейчас мне странно вспоминать, до чего же простые истины надо было мне втолковывать!
— Утром поедешь с полковником на высотку… На виллу фон Шехта, — закончил Бакулин. — Покажешь там все. А теперь ступай. Подумай как следует.
Как только мы двинулись к высотке, Сторицын начал проверять мои познания.
— Полный профан, — признался я. — Одного Айвазовского помню — «Девятый вал».
— А «Черное море»? Неужели не знаете? — изумился он. — Да ведь у нас никто, понимаете, ни один художник еще не сумел так выразить… огромность моря, силищу его… Вот Англия — остров, морская держава, а ведь и там мало кто мог… А труженик какой! Сколько картин написал! Сам он счет потерял. А когда подсчитали, уже после него, около шести тысяч получилось в итоге.