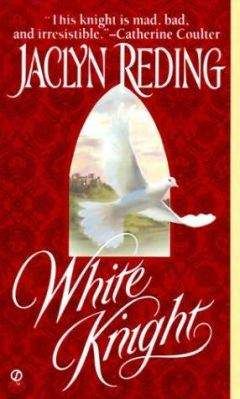И вот Владлен Андреев сдается, организует небольшую подсекцию, что ли, для девчат. Штук пятнадцать набирается. Он их в свободное время тренирует и берет себе в помощники меня. Это честь, но и работка, скажу я вам! Лучше с двадцатью парнями иметь дело, чем с одной девчонкой. У них эмоции через край. Чуть что не получается — иные в слезы. Постепенно никчемные отсеиваются, упорные остаются. И Зоя во главе. Ее все интересует. Она основательная. Читает про самбо, изучает. Когда домой провожаю, вопросы задает. (А я не сказал, что домой ее провожаю? Нет? Как-то так получилось, в общем, сам не знаю как…)
Я ей звоню и предлагаю сделать перерыв в занятиях. Она соглашается, и мы идем в наше любимое место — Парк Горького, благо живем оба невдалеке — три-четыре троллейбусные остановки (ее дом на Плющихе).
Я, естественно, приезжаю первым и болтаюсь возле входа в ожидании. Она опаздывает ненамного — аккуратная. Выпрыгивает из троллейбуса в своих джинсовых брючках, в клетчатой рубашке, уже загорелая, волосы по плечам. Красивая. По мне — самая красивая. Здороваемся за руку, входим в парк и рвем таким темпом, словно хотим установить рекорд в ходьбе на десять километров. Пока не доходим до острова. Есть там такой. Вокруг на лодках катаются, лебеди плавают, шашлыком пахнет, из репродуктора музыка гремит. Мы ничего не замечаем. Садимся на скамейку, сидим, болтаем, я ее руку держу (или она мою?). Болтаем о чем хочешь, только не о главном. Когда на аллее никого нет, нее целую по-быстрому. Она делает вид, что не замечает. Вот в такую дурацкую игру играем.
На следующий день Борис закатывает мне сцену у фонтана — где я был, куда сбежал, почему его бросил! Ох, ах. Он почти сразу вернулся. Еле от этой Ирен отделался. Хотя и не просто — привязалась к нему… (Это она к нему! То-то он, не успела позвонить, как заяц помчался.)
И опять садимся заниматься до очередной Ирен.
Экзамены обладают поразительным свойством: до — они кажутся прямо-таки Джомолунгмой, непреодолимым препятствием, после — кротовым холмиком, и удивляешься, стоило столько читать, запоминать, выучивать из-за двух-трех ерундовых вопросов. Смешно! Словно набираешь в легкие воздуха, чуть не лопаешься, а сдал — как выдохнул.
Остается пустота — все ушло во вчерашний день. А может, и дальше, в прошлое, в детство.
Ушли экзамены, школа, друзья детства. А скоро уйдут мои московские переулки, мой старый дом на улице Веснина, пруд в Парке культуры, высокий зал под Восточной трибуной стадиона «Динамо». Станет сладкой доброй памятью. Уйдет детство.
А впереди иная дорога, широкая, и конца ей не видно. Через два-три месяца я приду в военкомат и уеду служить на границу (куда ж еще? Мысль о другой службе мне просто в голову не приходит). Кончу службу, кончу погранучилище и начну новую службу, на этот раз пожизненную.
Такая мне предстоит дорога, и другой быть не может. Я ясно вижу ее, она четко вырисовывается из белого мерцающего тумана, что наплывает на меня. Дорога, на которую я ступил десять лет назад. Или вчера?.. Я ясно вижу ее, хотя глаза у меня закрыты. А в ушах слабо шелестит тишина.
Сплю я? Или не сплю? Я в каком-то тупом забытьи, а вокруг — серый холодный туман, даже черный, какие-то темные тоскливые облака. Они обретают черты, отступают, теперь я вижу и низкий потолок, и серые бетонные стены, и черную железную дверь с глазком. Мне хочется вскочить, броситься к этой двери, разбить ее, расшвырять, растолкать стены… Но я продолжаю лежать неподвижно. К чему все это? Эти бесполезные усилия, эти несбыточные желания?
Мне холодно, я поплотней закутываюсь в грубое серое одеяло, пахнущее чем-то неприятным, мокрой шерстью, что ли, или дезинфекцией. Мне холодно. Холодно в камере, и еще холодней внутри, в душе, в сердце, в мозгу? Тоска не бывает теплой, она всегда холодна.
Я закрываю глаза. Веки захлопываются как трапы — тяжело и плотно.
Я ничего не хочу видеть. Слышать. Говорить. Так бы вот лежать и лежать в забытьи. Долго. До самого конца. И чтоб пришел он побыстрей, этот конец. Нет! Не хочу! Не хочу никакого конца! Пусть этот серый туман! Эти бетонные стены! Эта могильная тишина. Только не конец!
И не воспоминания. Я гоню их прочь. Я весь напрягаюсь под своим грубым одеялом, на своей жесткой койке. Но это не помогает — воспоминания смеются над моими желаниями или нежеланиями, над моим страхом, над моей тоской. Они властно и презрительно раздвигают серый туман и входят в камеру. И заполняют ее. Они черные.
А ведь когда-то было и светло в моей жизни. Было же счастливое детство! Была золотая пора.
Был дом — полная чаша, мать-клуха вечно возилась со мной, как курица с цыплятами, отец — внешторговский спец — вечно по заграницам мотался, чего только не навозил. То, на что ребята копили годами, у меня с пеленок имелось. И, между прочим, экстерьер. Ребеночком я был лорд Фаунтельрой, а попозже — эдакий супермен из «Великолепной семерки», не лысый, конечно, не Юл Бринер. Девки от меня без ума, все подряд.
Но маменькиным сынком, между прочим, никогда не был. Извините. Наоборот, вполне самостоятельная личность и вполне работоспособная. В школе — одни пятерки, по легкой атлетике — разрядик, язык выучил лучше любого американского аборигена. Ценой личных трудов. Не курил, не пил, не ругался, не дрался, в бога не верил. Верил только в себя и только себе. Это-то меня в конечном счете и подвело.
У меня в школе было мало друзей. Приятелей — да, вагон с тележкой, так называемых корешей. А вот друзей мало. Только Жуков Андрей, пожалуй. Его уважал. Жаль, рано я с этим уважением расстался.
Я заметил, между прочим, что в жизни мы, если о чем-нибудь жалеем, то всегда слишком поздно. Удивительно! Нет того, чтобы пожалеть вовремя. Обязательно с опозданием. А как было бы здорово, если б перед тем, как сделать очередную глупость, мы испытывали сожаление — эх, мол, зачем я это сделаю. И не делал бы. Так нет, все приходит с опозданием. Все мы задним умом крепки. А я больше всех. Умом. Было б чем.
Любопытно, что в школу я ходить любил. Интересно мне там было. Нет, серьезно. Я с удовольствием слушал учителей, если толковые. Но нам на толковых везло. А уж всякие там опыты но физике, химии — сплошное удовольствие. Стихов я знал наизусть множество (и, признаюсь по секрету, сам пописывал), книги проглатывал. А уж когда выучил английский прилично, то потребовал от отца, чтоб он мне детективы привозил. Он и рад стараться — мешками приволакивал. И, пожалуй, детективы эти мне в познании языка здорово помогли. Я тогда читал их запоем. И вот что я заметил: когда без конца читаешь Чейза, Спилейна, Чандлера, Флеминга, Мейсона, Брауна, Гарднера — еще могу сотню назвать, — начинаешь, в тогдашнем моем возрасте, во всяком случае, жить в особом мире. Не все время, конечно, но как бы полосами. Скажем, вечером возвращаешься из кино и все время оборачиваешься — не следит ли кто-нибудь, или сам какого-нибудь прохожего выбираешь и ловко наблюдаешь за ним, до самого дома провожаешь. В комнату свою входишь и проверяешь — под кроватью никого нет? В шкафу? За занавеской? Интересно. И уж, конечно, на девчонок смотришь по-особому, эдак таинственно, загадочно, многозначительно. Они от этого дохнут как мухи. Посмотришь на нее, и все, она твоя. Я на одноклассниц еще в пятом заглядывался, ну, а уж в восьмом… И заарканил-таки самую красивую — Ленку Царнову. Между прочим, еще тогда, когда она гадким утенком была. Но я угадал, предвидел. И не ошибся — к восьмому классу без дымчатых очков смотреть на нее не полагалось. Красоты — ослепительной! Где-нибудь в Майами — первое место на конкурсе «Мисс Америка» гарантировано. Она, правда, мне нравилась, жутко, эдакая детская увлеченность, переросшая в любовь, точнее, детская любовь, переросшая во взрослую, вполне мужскую увлеченность. Во всяком случае, в девятом классе она мне в благодарность за мою верность подарила то, что обычно жены дарят мужьям в первую брачную ночь. Кстати, верности-то особой не было, я ей в самый пылкий период нашего романа изменял направо и налево. Тут уж я ничего не мог поделать. Не мог противиться своей натуре. И настояниям девиц тоже. Когда я Жукову рассказал, он чуть со стула не упал.