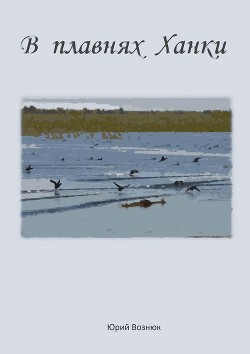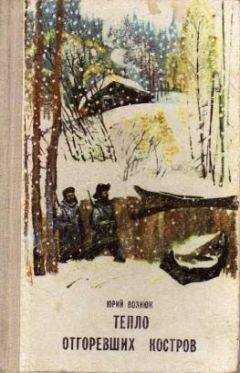До охоты на Ханке я думал, что утки передвигаются под водой при помощи перепончатых лап, но это оказалось далеко не так. Лапы им служат чем-то вроде руля глубины, в то время как основным двигателем являются крылья. В воде крылья нырков превращаются в хорошие ласты, с завидной скоростью переносящие их на десятки метров от опасности. Пара лутков, развлекавшая меня, — птицы довольно обычные, но не признаваемые охотниками за дичь. Так уж повелось считать, что, если у водоплавающей острый, а не плоский клюв, она кто угодно, но только не утка и не предмет достойной добычи. А между тем лутки — самые настоящие утки. Окрашены они весьма скромно: на белом фоне тушки две поперечные полоски на грудке да редкие бурые перышки среди перьев, покрывающих крылья. Единственной примечательностью у самца является красный хохолок на голове.
Луток — очень осторожная птица, поэтому охотники так мало знают о нем. Осенью лутки самые жирные из нырков, но, к сожалению, их излюбленной пищей является рыба, поэтому мясо лутка имеет неприятный запах, так что охотники обоснованно пренебрегают этой добычей, хотя в домашних условиях существует много способов избавиться от этого запаха.
Поглядывая из скрадка за отношением уток к чучелам, я не мог удержаться от смеха. Усевшись поодаль, гоголь явно рисовался перед невзрачными резинками. Он окатывал себя водой, быстро и элегантно взмахивал крыльями и был, вероятно, весьма недоволен их равнодушием. Чернети плавали среди чучел, удивленно киркали и просто ничего не могли сообразить. Одни лутки держались сдержанно по отношению к таким необщительным птицам.
После уток откуда-то появился енот. Это было удивительно — увидеть енота днем. Он стоял на кочке метрах в сорока от меня, уставившись в воду.
Сначала он почесал себе нос, затем за ухом и, наконец, лениво плюхнулся в воду. Что за дела потащили его в камыши? Посмотрев на енота, я вдруг вспомнил, что этот субъект доставляет много хлопот охотникам Приморья. Кому не приходилось находить свои чучела, оставленные на ночь в воде, вытащенными на берег с напрочь отгрызенными головами. Надо полагать, что енота обманывает силуэт чучела, и он, потратив много сил на их скрадывание, изливает свое зло, обнаружив обман. Вообще-то его можно понять!
А вот на тростник сели две маленькие серые птички-камышницы. Бойко попискивая, они запрыгали на качающихся стеблях, с интересом рассматривая меня. «Что за чучело появилось в болотце?!»— слышалось в удивленном посвисте камышниц.
Я лежал на спине и смотрел в высокое бледно-голубое небо. Стояла наша милая приморская осень. Есть в ней что-то торжественно-грустное, что-то печальное, но близкое и дорогое сердцу. «Курлы-курлы-курлы», — неслось с высоты. Это, покидая родную землю, улетали журавли.
Незаметно подошел вечер. Засновали первые станки уток. С сумерками в ханкайских плавнях начинается особенно суетливая жизнь. И не только пернатых. Тут и там раздается бульканье, плеск, и по воде разбегаются в разных направлениях дорожки. Это выходят на кормежку ондатры. Их здесь много. Совсем недавно завезенные в эти края, ондатры так быстро размножились, что уже никакой промысел не может остановить их распространения. Мех ондатры ценится довольно высоко, и, на мой взгляд, это довольно симпатичный зверек. Единственно, что портит его вид — голый плоский хвост. Ондатра — животное ночное, питается корневищами водных растений и почти всю жизнь проводит в воде.
Я был удивлен, увидев, как ловят ондатр. Оказывается, для этого не нужно никакой приманки. Капкан без всякой маскировки устанавливается на кормовую кочку и привязывается к тычке. Иногда ондатроловы специально на видном месте переворачивают любую кочку и устанавливают там капкан. Будучи весьма любопытным, зверек обязательно исследует попы и для него предмет и угодит в капкан. Мне приходилось и до этого видеть ондатр, но такого количества, как на южном берегу Тростниковой, я не встречал нигде. От их возни стоял непрерывный плеск, и казалось, что под каждым кустиком копошатся ондатры. Впрочем, занятый охотой, я мало обращал на них внимания, однако до тех пор, пока их присутствие не начало мне досаждать.
Отстреляв зорьку, я поужинал и с наслаждением вытянулся на постели. Моя стрельба пугала зверьков, и они предпочитали держаться подальше, но только я затих — ондатры осмелели и решили исследовать мой лагерь. Они начали царапать борт, лезли на нос лодки, в стоявший рядом челнок; пищали, шуршали брезентом, что-то грызли и не хотели униматься. Я стучал кулаком, кричал, но это не помогало. Через минуту все начиналось снова. Один раз я даже вылез наружу и начал колотить шестом по лодке и траве. Ондатры разбежались, но вскоре вернулись и принялись за старое. Это был настоящий набег. Обозленный, я махнул на них рукой и, чтобы не слышать неприятной возни, включил транзистор. Как ни странно, ондатры вдруг затихли. Вот уж не знаю, понравилась ли им музыка или им просто надоело испытывать мое терпение, но только больше я их не слышал.
Утром я едва не проспал зорю. Не хотелось вылезать из теплого спального мешка, но пришлось. Холодная вода обожгла лицо и мигом согнала остаток сна. Не успел я вогнать в магазин последний патрон, как табунок кряковых повис над чучелами и, вытянув вперед лапы, с шумом опустился на воду. Тихо щелкнул предохранитель, и, как бы вторя ему, десятки коротких всплесков донеслись с воды. Табунок чирков вывалился с небес и рассеялся на плесе перед скрадком. Уже вскинув ружье, я заметил, как на чучела справа шли шилохвости.
То ли место я выбрал удачно, то ли подошла очередная волна северной утки, но только это была одна из самых удачливых зорь. Иногда я не успевал заряжать ружье, не было времени даже прикурить. Утки шли стаями и поодиночке, и я, не забывая, что нахожусь на промысле, перестал стрелять сидячих. Давно потерял я счет сбитым птицам, перестал огорчаться промахам, а утки все летели и летели. На неподвижной воде плавал целый частокол стреляных гильз. Так длилось часа два. Наконец в лёте стали появляться перерывы. В один из таких промежутков приплыл ко мне на своем деревянном «утюге» Власов. Разгоряченные охотой, оглохшие от стрельбы, мы сидели совершенно открыто, но это не напугало очередной табун шилохвосток и чирков. Он метнулся к чучелам — и Илья дуплетом выбил двух уток.
Мы выкурили еще по одной папиросе. Лёт, видимо, закончился, Я выдернул из травы свой челнок, намереваясь собрать убитых уток, — ветерок тянул от меня, и все они плавали в дальнем углу плеса. Не успел отъехать и двадцати метров, как почувствовал что-то неладное. Челнок начал издавать какой-то странный звук, напоминающий журчание ручья. Я осмотрел его, но ничего подозрительного не обнаружил. Проплыв еще немного, заметил, что челн быстро меняет осадку, и только когда вода холодом обожгла тело — мне стало все понятно. Дурным голосом закричал я уезжающему Власову и что было мочи замахал веслами к моторке. Перепуганный Илья вынырнул из камышей и помог вытащить на траву мой полузатонувший корабль.
О подлые твари! Они сделали из моего челна решето. Все его прорезиненное днище, в особенности на швах, было изгрызено ондатрами. Мало им камышей вокруг, так они принялись за резину и брезент! В гневе смотрел я на это злодейство, но делать было нечего. Пришлось просить лодку у Власова и собирать уток на ней.
Весь день я посвятил ремонту челнока. Не будь у меня эпоксидной смолы — никаким клеем я бы его не заклеил. Наконец к вечеру смола затвердела, и теперь крысы могли ломать свои зубы об нее сколько угодно. Вечерняя зорька прошла неудачно. Утки пошли на кормежку поздно и летели высоко. Мне удалось взять только одну кряковую, остальные ушли в темноте подранками. Неудача мало огорчала меня: в общей сложности день прошел удачно, да и наступивший вечер был слишком: хорош, чтобы досадовать. Тихо посвистывал носиком чайник, за бортом снова забултыхались ондатры, где-то далеко прогудел самолет, в небе засветились звезды. Тиха октябрьская ночь на Ханке. Таинственные шорохи, всплески. Жизнь непонятная, загадочная. Но что это? Мелодия... песня?.. Старинная русская песня! А, други мои! И вас околдовала ночь?! Я лежал, слушал ночь и песню, и мне почему-то вспомнились слова Сергея Лазо, высеченные на памятнике ему во Владивостоке ( Вот за эту русскую землю, на которой я сейчас стою, мы умрем, но не отдадим ее никому). Потом пел и я. Уж не бог весть как, но только пропел я в ту ночь камышам все свои любимые арии и романсы.