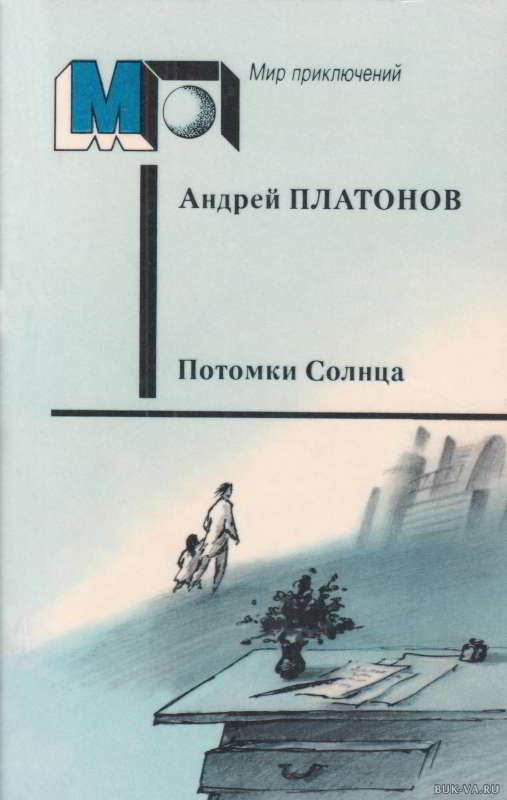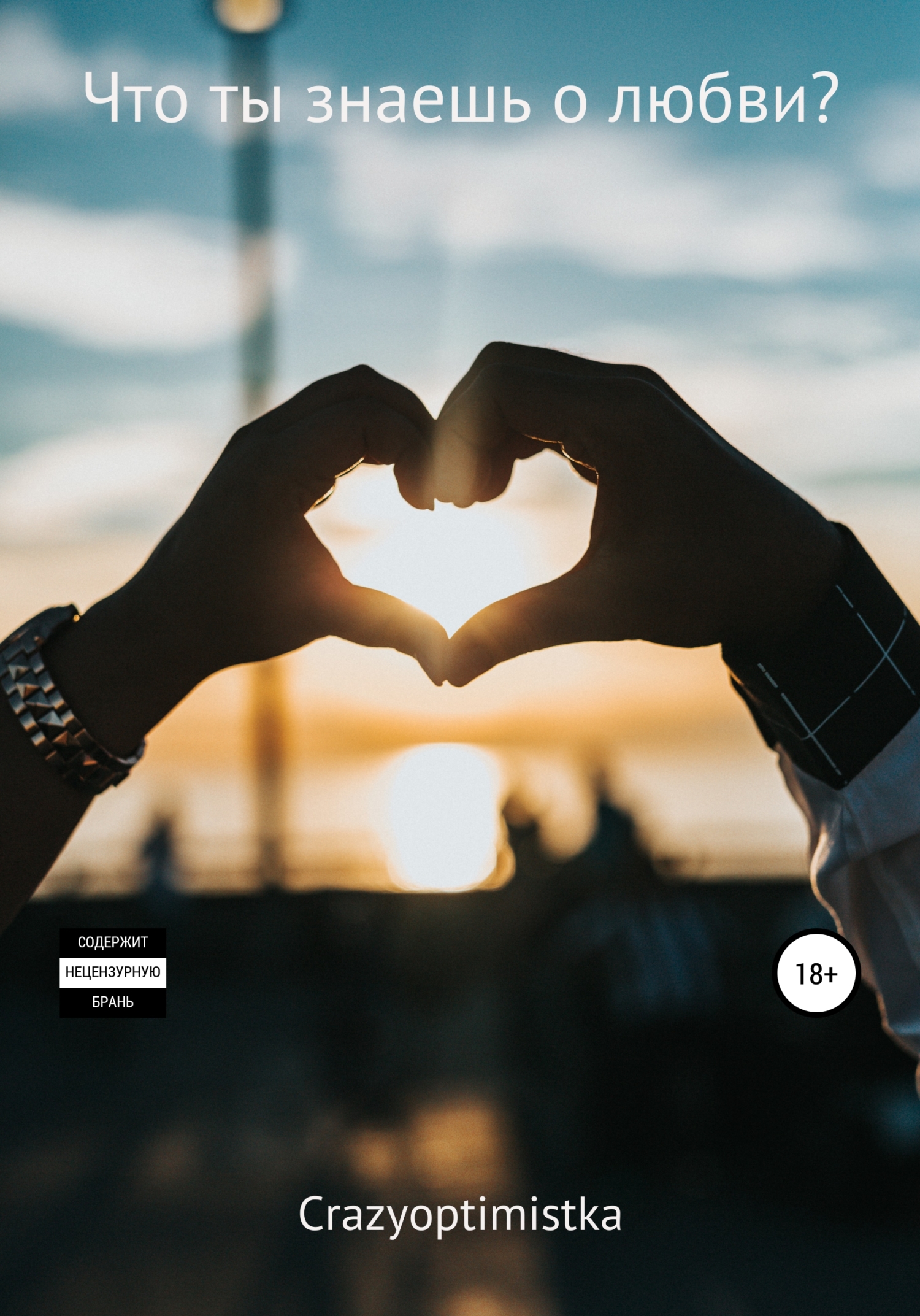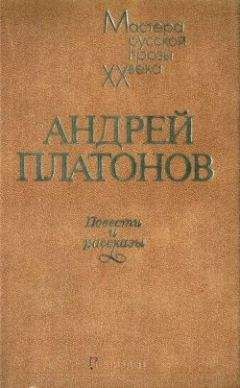понять, почему счастье кажется всем невероятным и люди стремятся прельщать друг друга лишь грустью.
Чагатаеву горе надоело с детства, а теперь, когда он стал образованным, ему оно представлялось пошлостью, и он решил устроить на родине счастливый мир блаженства, а больше неизвестно, что делать в жизни.
— Ничего, — сказал Чагатаев и погладил Вере ее большой живот, где лежал ребенок, житель будущего счастья. — Рожай его скорее, он будет рад.
— А может, нет, — сомневалась Вера. — Может, он будет вечный страдалец.
— Мы больше не допустим несчастья, — ответил Чагатаев.
— Кто такие вы?
— Мы, — тихо и неопределенно подтвердил Чагатаев. Он почему-то стыдился говорить ясно и слегка покраснел, словно тайная мысль его была нехороша.
Вера обняла его на прощанье — она следила за часами, разлука подходила близко.
— Я знаю, ты будешь счастлив, у тебя чистое сердце.
Возьми тогда к себе мою Ксеню.
Она заплакала от своей любви и неуверенности в будущем; ее лицо вначале стало еще более безобразным, потом слезы омыли его, и оно приобрело незнакомый вид, точно Вера глядела издалека чужими глазами.
Поезд давно покинул Москву; прошло уже несколько суток езды. Чагатаев стоял у окна, он узнавал те места, где он ходил в детстве, или они были другие, но похожие в точности. Такая же земля, пустынная и старческая, дует тот же детский ветер, шевеля скулящие былинки, и пространство просторно и скучно, как унылая чуждая душа; Чагатаеву хотелось иногда выйти из поезда и пойти пешком, подобно оставленному всеми ребенку. Но детство и старое время давно прошло. Он видел на степных маленьких станциях портреты вождей; часто эти портреты были самодельными и приклеены где-нибудь к забору. Портреты, вероятно, мало походили на тех, кого они изображали, но их рисовала, может быть, детская пионерская рука и верное чувство: один походил на старика, на доброго отца всех безродных людей на земле; однако художник, не думая, старался сделать лицо похожим и на себя, чтобы видно было, что он теперь живет не один на свете и у него есть отцовство и родство, — поэтому искусство становилось сильнее неумелости. И сейчас же за такой станцией можно видеть, как разные люди рыли землю, сажали что-то или строили, чтобы приготовить место жизни и приют для бесприютных. Порожних, нелюдимых станций, где можно жить лишь в изгнании, Чагатаев не видел; везде человек работал, отходя сердцем от векового отчаяния, от безотцовщины и всеобщего злобного беспамятства.
Чагатаев вспомнил материнские слова: «Иди далеко, к чужим, пусть отец твой будет незнакомым человеком». Он ходил далеко и теперь возвращается, он нашел отца в чужом человеке, который вырастил его, расширил в нем сердце и теперь посылает снова домой, чтобы найти и спасти мать, если она жива, похоронить ее, если она лежит брошенной и мертвой на лице земли.
В одну ночь поезд остановился по неожиданному случаю в темной степи. Чагатаев вышел к двери в тамбур вагона. Было тихо, вдали сопел паровоз, пассажиры спали в покое. Вдруг в степной темноте вскрикнула одна птичка, ее что-то напугало. Чагатаев вспомнил этот голос через многие годы, как будто его детство жалобно прокричало из безмолвной тьмы. Он прислушался; еще какая-то птица что-то быстро проговорила и умолкла, он тоже помнил ее голос, но сейчас забыл ее имя: может быть, пустынная славка, может быть, пустельга. Чагатаев вышел из вагона.
Невдалеке он заметил кустарник и, дойдя до него, взял его за ветвь и сказал ему: «Здравствуй, куян-суюк!» Куян-суюк слегка пошевелился от прикосновения человека и опять остался как был — равнодушный и спящий.
Чагатаев отошел еще дальше. В степи что-то шевелилось и покрикивало, она казалась бесшумной лишь для отвыкших ушей. Земля стала опускаться в низину, началась синяя высокая трава. Чагатаев, с интересом воспоминания, вошел в траву; растения дрожали вокруг него, колеблемые снизу, разные невидимые существа бежали от него прочь — кто на животе, кто на ножках, кто низким полетом — что у кого имелось. Они, наверно, сидели до того неслышно, но спали из них лишь некоторые, далеко не все. У всякого было столько заботы, что дня, видимо, им не хватало, или им жалко было тратить краткую жизнь на сон, и они только чуть дремали, опустив пленку на полглаза, чтобы видеть хоть полжизни, слышать тьму и не помнить дневной нужды.
Забыв свое дело, Чагатаев почувствовал запах влаги; где-то вблизи было озеро или колодезь. Он направился туда и вскоре вошел в какую-то небольшую, влажно растущую траву, похожую на маленькую русскую рощу. Глаза Чагатаева притерпелись ко мраку, он видел теперь ясно. Затем начался камыш; когда Чагатаев вошел в него, то сразу закричали, полетели и заерзали на месте все здешние жители.
В камышах было тепло. Животные и птицы не все исчезли от страха перед человеком, некоторые, судя по звукам и голосам, остались, где были. Они испугались настолько, что, ожидая гибели, спешили поскорее размножиться и насладиться. Чагатаев знал эти звуки издавна и теперь, слушая томительные, слабые голоса из теплой травы, сочувствовал всей бедной жизни, не сдающей своей последней радости. Поезд неслышно поехал. Чагатаев мог бы его догнать, но не поторопился; уехал лишь чемодан с бельем, и то его можно получить обратно в Ташкенте. Но Чагатаев решил его не получать, чтобы спешить по своему делу и не отвлекаться. Он уснул в траве, среди спокойствия, прижавшись к земле, как прежде.
Через семь дней Чагатаев дошел до Ташкента ближней пешей дорогой. Он явился в Центральный комитет партии, где его уже давно ожидали. Секретарь комитета сказал Чагатаеву, что где-то в районе Сары-Камыша, Усть-Урта и дельты Амударьи блуждает и бедствует небольшой кочевой народ из разных национальностей. В нем есть туркмены, каракалпаки, немного узбеков, казахи, персы, курды, белуджи и позабывшие, кто они. Раньше этот народ почти постоянно жил во впадине Сары-Камыша, откуда он ходил работать на хошары и на чигири в Хивинский оазис, в Ташауз, в Ходжейли, Куня-Ургенч и другие дальние места.
Бедность и отчаяние того народа были настолько велики, что он о земляной хошарной работе, которая продолжалась лишь несколько недель в году, думал как о благе, потому что ему давали в эти дни есть хлебные лепешки и даже рис.
На чигирях тот народ работал вместо ослов, двигая своим телом деревянное водило, чтобы подымалась в арык вода.
Осла надо кормить круглый год, а рабочий народ из Сары-Камыша ел лишь немного времени, а потом уходил вон.
И целиком не умирал и на другой год