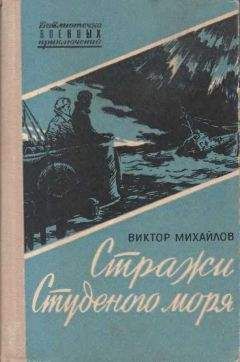Снег уже потемнел и стал ноздреватым, как всегда весной. В это время года в Москве уже продают подснежники.
«Будут ли от Светланы письма? Сколько? Одно, два, а быть может, три?» — думал Нагорный.
Андрею вспомнилась осень позапрошлого, года. У военкомата дожидался автобус. Нетерпеливо поглядывая на часы, вороша ногами опавшие желтые листья, он ходил по аллее парка. Света пришла взволнованная и растерянная. Прощаясь, она притянула Андрея к себе и поцеловала в губы. Ощущение этого первого поцелуя живет и сейчас. Уже у калитки Андрей оглянулся и увидел Светлану с косынкой в беспомощно опущенной руке.
Туман редел. С бухты доносился жалобный крик чаек. Птицы спорили с мощными звуками рояля — трансляционный узел клуба передавал урок гимнастики. Казалось странным, что в этот день и час и в Москве, и в родной Кашире, так же, как и здесь, в Заполярье, звучат одни и те же звуки рояля… Только сейчас Нагорный сообразил, что еще очень рано, а почта открывается в десять часов.
Он медленно пошел к старому причалу. Здесь швартовались сухогрузные баржи, буксиры, катера, «касатки», прозванные так за высокие мореходные качества.
Нагорный прислонился к штабелю бревен. По другую сторону бухты в редеющем тумане высился силуэт «Вьюги». Узкие, словно бойницы, порты фальшборта, гордая форма приподнятого носа, чуть скошенная назад труба. Вытянутый, длинный корпус сторожевика выглядел даже здесь, у стенки, настороженным, сильным и готовым к стремительному движению вперед.
И Андрей подумал, что это его корабль, что с ним он связан крепким, выстраданным чувством привязанности.
Мороз крепчал, пробираясь под стеганку, ноги застыли. Нагорный решил вернуться на корабль. Он шел быстро и, поднимаясь по трапу, чувствовал, что идет в свой дом, где его ждут тепло обжитого кубрика, знакомые шумы, запахи, а главное — люди, так же, как и он, познающие законы северных морей.
На корабле шла приборка: матросы скалывали лед, драили медные части, щетками смывали морскую соль с надстроек и палубы.
Захватив ветошь, Нагорный поднялся на полубак.
— Ты что же так скоро? — спросил его старшина 2-й статьи Хабарнов.
— Почта еще закрыта, — ответил Андрей.
— По дому соскучился, — понимающе сказал Хабарнов. — На что мой дом близко, из поморов я, мезенский, а веришь, ночью в кубрике лежишь, о доме думаешь — душу греешь…
Отжимая швабру, Хабарнов оглядел проясняющийся горизонт и сказал:
— Юго-западный ветер идет. У нас, у поморов, его шалоником называют. — Сгоняя через шпигат воду с полубака, Хабарнов рассмеялся: — Слышал, паря, как помор в старину ветер на таракана гадал? Мне отец сказывал. Ходили тогда под парусом. Ветра нет — трески нет. А «тресшоцки» не поел — худо помору, весь день голодный. Берет тогда помор большого черного таракана, за борт бросает, на таракана смотрит да приговаривает:
У встока[6] да обедника [7]
Женка хороша!
У запада, шалоника,
Женка померла.
Встоку да обеднику
Кашу наварю,
А западу, шалонику,
Блинов испеку.
Куда таракан головой повернется, с той стороны и ветер будет. Вот, паря, посмотрел бы мой дед, что тараканом счастья пытал, на каком корабле его Тихон в море ходит — второй раз от зависти концы отдал бы!
— Он от старости помер? — спросил рыжеватый матрос, надраивая на палубе медные таблички с номерами шпангоутов.
— Нет, от водки, — помрачнел Хабарнов. — Фактория у нас была английская, поморов спиртом спаивала. Мой дед поболее того раза в два выпил, что человеку на всю жизнь спиртного положено, — ну и помер раньше времени.
Буксир подтянул к борту «Вьюги» наливную баржу с горючим, затем интендант подвез на грузовике продукты. Только после обеда дежурный по кораблю разрешил Нагорному снова сойти на берег.
Четыре письма получил Андрей: от мамы, Фомы Лобазнова, друга с пограничной заставы, и два от Светланы.
Письмо матери, как всегда, было полно тревоги за него. Здесь, в этом краю, в сорок четвертом году, в боях за Большую Криницу погиб ее первенец Владимир. Мать всегда не замечает того, как мужают ее дети, и Андрей для нее оставался ребенком. Длинными ночами, одинокими и бессонными, она писала ему обо всем, что беспокоило материнское сердце.
«Андрюша, у нас уже теплые ветры и на улице стаял снег. На тополях налились почки, — писала она. — В тех местах, где ты служишь, скоро быть весне, но ты не доверяйся первой весенней весточке, она обманчива, ноги держи сухими и в тепле. Я тебе шерстяные носки связала, завтра соберу посылку. Денег, сыночек, мне хватает. Сегодня у меня была Светлана, славная девушка, и любит она тебя. Береги, Андрюша, это хорошее, чистое чувство…»
Ночь стояла непривычно тихая. Электроэнергию корабль получал с базы. Корабельные двигатели отдыхали, словно набирались сил. Было слышно, как билась о пирс волна. Комендор не спал. Его койка была верхней, и у самого изголовья горела сильная электрическая лампа под колпаком из молочного стекла. Накрывшись одеялом, Нагорный лежал на боку и — в который раз! — перечитывал письма.
«Друг Андрей! — писал Лобазнов. — Вот ведь как получилось. Я уже скоро год как служу на границе, а ты, закоперщик, всего только шестой месяц. Помнишь, как мы с тобой еще мальчишками клялись друг другу всегда и везде быть вместе? Теперь дело прошлое, но, когда я узнал в военкомате, что ты уезжаешь в учебный отряд, а я в Мурманск, такая обида меня взяла, что я чуть не разревелся. Теперь мы с тобой близко и далеко. Служим на одной границе, а свидимся неизвестно когда. Ты пишешь о трудностях, а где их нет? Мечтая с тобой о будущем, разве мы искали легких путей? Помнишь, мы говорили о романтике, о полной приключений пограничной службе? Мы представляли себе погоню, борьбу, перестрелку, смертельную схватку с врагом. А на деле? За целый год службы я еще ни разу не видел нарушителя. И если пораскинуть мозгами, так в этой службе нужно больше мужества, чем в схватке с врагом. Обязанности у нас с тобой маленькие, а делу мы служим большому. Легче совершить подвиг, чем все время, всегда и везде быть готовым к этому подвигу. Ты скажешь: «Ну, вот, опять наш Фома — горе от ума!» Что сделаешь, Андрюшка, у тебя сердцекоренник, а башка за пристяжную, у меня мой котелок коренником ходит…»
Услышав за спиной тяжелые шаги боцмана (мичман дежурил этой ночью по кораблю), Нагорный спрятал письмо под подушку.
Мичман обошел кубрик, подоткнул свесившееся с матросской койки одеяло, остановился возле Нагорного и спросил:
— Почему, комендор, не спите?
Нагорный приподнялся, чтобы ответить, и письмо упало к ногам боцмана. Ясачный нагнулся, поднял голубой конверт и, положив его под подушку комендора, сказал: